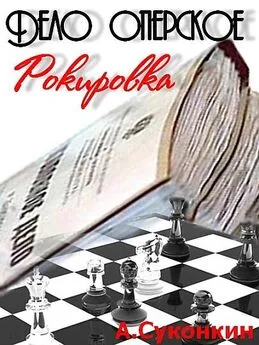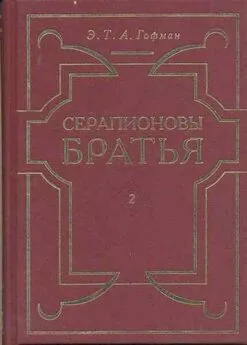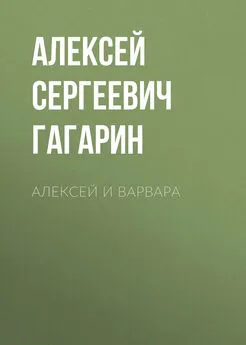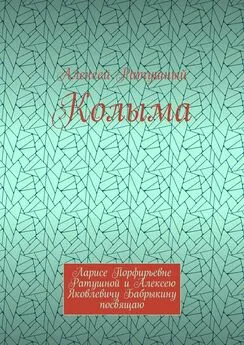Алексей Мунипов - Фермата
- Название:Фермата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Новое издательство
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-239-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Мунипов - Фермата краткое содержание
Фермата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нужно, чтобы у композиторов снова обострился вкус к музыкальным мгновениям. Как, например, у такого симпатичного композитора Куртага. У него маленькие формы и есть такие мгновения. Но все-таки они какие-то не преображенные, он как будто чего-то боится. Какие-то они… буквальные. Все равно они находятся в зоне постмодернизма, постдодекафонии, поствебернианства.
И совсем другое дело – экспромты у Шуберта. Он не садился и ничего не обдумывал, он просто услышал и поймал музыку, она вышла из мира неслышимого, проявилась, и это чувствуется. Вот эта зона и есть самое важное. И это не только мой личный выход из этой ситуации, не во мне дело. Просто есть тупик современной музыки, мощный гигантский бункер, и в нем – маленький выход, такая крохотная дырочка. Через мои багатели как раз можно выйти. Потому что куда бы ни ломился – все забронировано навеки. А незаметный выход – только через них. Хотя у меня, может быть, и не хватит сил. Когда мы выберемся, каждый сможет расширяться как захочет, но сперва надо выйти.
И еще важно снижение уровня патетики. У Ольги Седаковой есть замечательное эссе про постмодернизм, она там пишет, что акустика нашего времени не терпит повышения голоса. Это не значит, что достаточно просто тихо говорить. Тихо можно говорить и чушь. Но все-таки все эти торжественные кульминации, которые мы могли терпеть, скажем, у Брукнера, сейчас как-то… Брукнеру мы еще прощаем худо-бедно, и то иногда сидишь…
А компенсацией этого неповышения голоса должна быть энергетика, но не буквальная, а семантическая. Скажем, в фугах или прелюдиях Баха ее было много. А у Шумана или Шопена есть и семантическая, и буквальная энергетика, все эти взрывы. Могут быть слабые вещи, которые сильны своей слабостью, своей семантической, а не буквальной силой. А для этого музыкальный текст нужно воспринимать не просто как информацию и принять его с благодарностью, чтобы текст поселился в памяти. Сделать памяти безболезненную татуировку.
Когда мы слушаем музыку, то часто говорим «интересно» или «захватывающе». Это хорошо, но для меня не самое главное. Когда я люблю текст, я его просто люблю – без интереса, без захватывающих эмоций. И вот этой любви к тексту очень мало в современной музыке. Интересное есть. Захватывающее – да. А вот любить… Вы спросите меня, что из этих монстров, гигантов современной музыки я люблю? И я смотрю – ну, может, у Булеза немножко, у Штокхаузена одна пьеса более-менее. В то время как в XIX веке – навалом, а уж у Баха…
– Но ведь когда-то для вас были очень важны и Шенберг, и Ксенакис, и Штокхаузен. Вы все это очень любили, и на вас они явно повлияли.
– Ну да, да. Даже в моей «Эсхатофонии» все это было. Но влиял не столько Ксенакис сам по себе, это же целый мир. А скорее его кластерность, напряжение. Мы его считали греком, и в его музыке чувствуется этот яркий, беспощадный свет греческого умствования. Как у Гераклита. Такая беспощадность, которая просто тебя ослепляет. Так это действовало на слух. [44] Симфония № 3 «Эсхатофония» (1966).
Но с Ксенакисом я дальше не могу двигаться. Если я слушаю его музыку сейчас, никакого контакта у меня с ней нет. Это как стоять перед горой или перед океаном. Присвоить это невозможно. В живом звучании оно еще как-то воздействует, но дома в наушниках – нет. Это просто серенады бегемотов, крокодилов, мамонтов, голоса хтонического мира. Скажем, Стравинский – это любовное, античность, Орфей, поэтизация. А Ксенакис демонстрирует пифагорейскую беспощадность, но она мне не нужна, я ее и без Ксенакиса ощущаю.
У него просто нечего играть. Есть одна пьеса, очень сложная, – «Herma». Но никакой семантической ценности в ней нет. Она настолько связана с математикой, что выходит за пределы наших оценок. Притом что у нее есть развитие, опоры на простые интервалы… Ну, Ксенакис – это просто явление такое. Уникум, который захотел стихии придать форму, опираясь на математические процессы. Но эта музыка совершенно не оседает в памяти. Только помнишь, что вступило фортепиано, а что оно играло – уже не помнишь. Лихое что-то играло, потом напряжение – но не ложится в память, хоть убей! Оно остается неприсвоенным. Так же как мы не можем присвоить горы и океаны.
Но хотел ли он этого сам? Ведь он – музыкант, но как-то всячески этого остерегался. По сути, он был архитектором, это такая специфическая звуковая архитектура. Она создавалась сразу на бумаге, и если посмотреть на партитуру – там такое расчерченное поле битвы: кластеры туда, сюда, а здесь нападаем. Но в музыке, которая мне интересна, так не получится, в ней ищешь разные возможности, пробуешь, оставляешь черновики: это не подходит, то не ложится, здесь должно быть прозрачнее, этот голос не подходит, хотя вроде бы к месту. Это болезненная стратегия сочинительства. Если бы Ксенакис сочинял так, он бы одну вещь сочинял сто лет. А так смотришь – сочиняется лихо. Значит, метод есть. Лопата имеется.
Интересно, что было время, когда против программной музыки восставали, считали ее вторичным жанром – ну, «Шехеразада», Лист, вот это все. А в XX веке программная музыка внезапно вернулась. В авангарде сочинение в буквальном смысле выполняло какую-то программу, но не поэтическую, как раньше, а структурную. Спонтанной музыки было очень мало. А в XIX веке ее было навалом, да и в XVIII, у Моцарта.
Не знаю, может быть, методы, которые оставили эти большие композиторы, кому-нибудь пригодятся. Трудно сказать. Все-таки есть результаты этих экспериментов, и мы можем ощутить на слух, что удачно, а что нет. И удачное может прорасти в словарь. Но молодые композиторы, мне кажется, должны все-таки опираться на слух, а то, если они начнут просто изучать схемы, у них пропадет всякая охота.
Конечно, это противоречит тому, как учат во всяких крутых консерваториях. Это партизанский способ – и для молодых, может, и опасный. Композиция – это вообще опасное занятие. А с другой стороны – детское, наивное. Когда оно слишком мудрое, возникают проблемы. Но и наивность тоже разная в разные времена. Лао-цзы говорил: высшая мудрость похожа на глупость. Похожа, да. Но это еще ничего не значит.
– Я вам сейчас прочту одну подходящую к случаю цитату. «Вместо свободной мелодии пришли серии из неповторяющихся звуков. Какой страшный удар по истинно творческой свободе! Сотни композиторов разных стран мира, не успев еще проявить свою творческую индивидуальность и национальный характер или утеряв, если они были, стали сочинять додекафонную музыку. Благо сравнительно несложный процесс овладения этой техникой не требует от композитора ни таланта, ни мастерства, ни ума, ни сердца, не говоря уже о таком устарелом понятии, как „вдохновение“. Живое творчество уступило место рационалистическому конструированию и обнаженной формальной схеме. Ганс Эйслер – ученик Шенберга – говорил, что теперь по этой системе сочинять может каждый дурак, усвоивший правила игры».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: