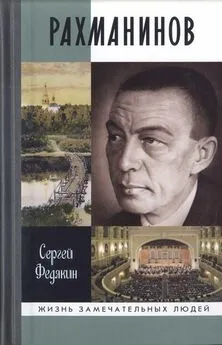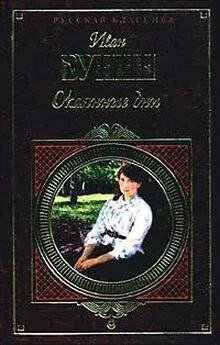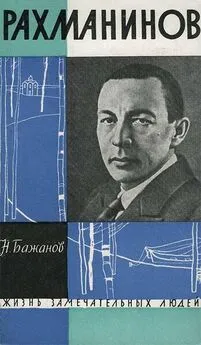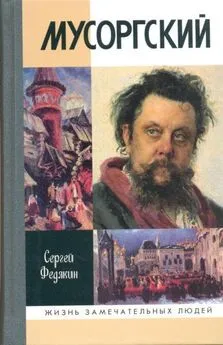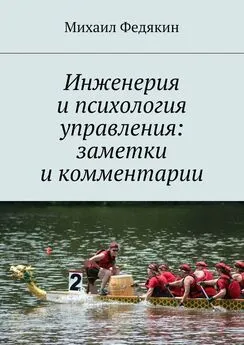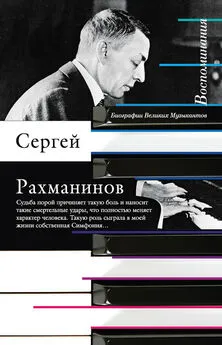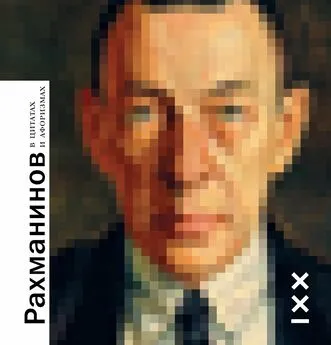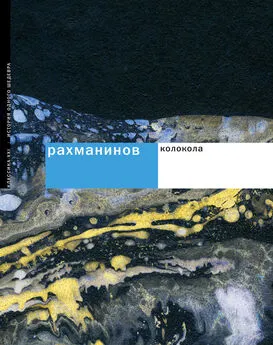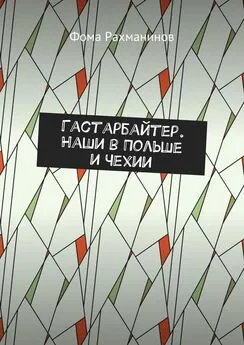Сергей Федякин - Рахманинов
- Название:Рахманинов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03695-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Федякин - Рахманинов краткое содержание
Книга о выдающемся музыканте XX века, чьё уникальное творчество (великий композитор, блестящий пианист, вдумчивый дирижёр,) давно покорило материки и народы, а громкая слава и популярность исполнительства могут соперничать лишь с мировой славой П. И. Чайковского. «Странствующий музыкант» — так с юности повторял Сергей Рахманинов. Бесприютное детство, неустроенная жизнь, скитания из дома в дом: Зверев, Сатины, временное пристанище у друзей, комнаты внаём… Те же скитания и внутри личной жизни. На чужбине он как будто напророчил сам себе знакомое поприще — стал скитальцем, странствующим музыкантом, который принёс с собой русский мелос и русскую душу, без которых не мог сочинять. Судьба отечества не могла не задевать его «заграничной жизни». Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и Красную армию — всех благодеяний музыканта не перечислить. Но главное — музыка Рахманинова поддерживала людские души. Соединяя их в годины беды и победы, автор книги сумел ёмко и выразительно воссоздать образ музыканта и Человека с большой буквы.
знак информационной продукции 16 +
Рахманинов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если мысленно «заретушировать» отрицательную окраску суждения, то будущий Рахманинов (да и только ли будущий?) здесь явлен. Стремление опереться на короткий, выразительный мотив, преображая его потом до неузнаваемости, и — «бесконечные» мелодии, с широтой и далью, — это Рахманинов, неповторимый и сразу узнаваемый.
Сколь ни ужасным казался отзыв Кюи, тем не менее именно он заметил, что, кроме «изысканно-извращённых» модуляций, «анархии звуков» и «сплошь мрачно-болезненного настроения», в симфонии заметны «несомненные проблески дарования, быть может, недюжинного». И что делать, если на концерте показалось, что молодой композитор очень уж постарался не быть банальным, отчего ударился в другую крайность — чрезмерную формальную новизну?
Безымянный критик «Нового времени» отказал Рахманинову даже в таланте: «Выпуклости идей — нет, но оригинальничания — бездна. В результате словно читаешь какое-то декадентское произведение; образы громоздятся на образы, и все тусклы и претенциозны!» Сам автор «стоит на ложном пути», не обнаружив «сколько-нибудь выдающегося дарования». Всего более поражает в отзыве то, что Рахманинову отказано даже в «русскости»: «В „Фатуме“ Чайковского, несмотря на итальянизм некоторых эпизодов, слышно чисто русского композитора. Г. же Рахманинова по его симфонии можно принять за любого новейшего немца, отравившегося к тому же воззрениями Ницше, но никак не за русского» [51] Новое время. 1897. 17 марта.
.
Не лучше оказался «слух на симфонию» и у Александра Коптяева: «Едва ли будет слишком сильным сказать, что у ней нет недостатков, ибо она — сплошной недостаток» [52] Коптяев А. Третий русский симфонический концерт // Русь. 1897. 17 марта.
.
Самый взвешенный отзыв даст «Русская музыкальная газета» в лице Николая Финдейзена: «Это произведение, заключающее в себе немало новых порывов, стремлений найти новые краски, новые темы, новые образы, всё же производит впечатление чего-то недосказанного, неразрешённого» [53] Финдейзен Ник. 3 и 4-й русские симфония, концерты и 6-й русский квартетный вечер// Русская музыкальная газета. 1897. Стб. 651–652.
. Николай Фёдорович отказался от окончательных суждений — слишком уж чудовищно махал дирижёр. Тут же подчеркнул достоинства: «Первая часть и в особенности бешеный финал, с заключительным Largo — этот финал один из умнейших критиков принял чуть ли не за изображение войны или, чёрт знает чего (я опять-таки остерегусь согласиться с этим толкованием, т. к. тот же критик некогда объявил одно из гениальнейших творений Бетховена — плац-парадным маршем) — обе части заключают в себе много прекрасного, нового и даже вдохновенного».
Завуалированная колкость, брошенная в сторону «критика», легко прочитывается. Это Цезарь Антонович позволил себе когда-то выпад в сторону Бетховена. И всё же в последних строчках рецензии и вдумчивый Финдейзен не удержался от того, чтобы щегольнуть опасным сравнением: «Эта симфония — произведение ещё не установившегося музыканта; правда, из него может выйти какой-нибудь музыкальный Поприщин, а может быть и какой-нибудь Брамс».
Сколь бы ни казалось высоким сравнение с Брамсом, когда речь идёт о совсем молодом авторе, образ главного героя «Записок сумасшедшего» Гоголя заглушал всё.
«Мне отмщение и Аз воздам». Что побудило Рахманинова взять такой эпиграф к своему произведению? Чувство к Родной, которое явило ему трагическую женскую судьбу? Или — внутреннее убеждение, что жизнь земная — трагедия? Эта библейская фраза — не просто отсылка к Священному Писанию или к роману Толстого. В ней — провидение собственной судьбы.
Какой-то злой рок тяготел над Петербургом 15 мая 1897 года. Случайно ли сочинение получило этот провиденциальный номер — «13»? Случайно ли рядом с Первой симфонией молодого композитора прозвучал Чайковский, столь им боготворимый и всегда столь благосклонный к его сочинениям? Случайно ли, что произведение Чайковского носило столь символическое название — «Фатум»? А если вспомнить историю сочинения, когда полный самых добрых намерений Пётр Ильич посылает своё детище Балакиреву, ему же его и посвятив, а в ответ получает письмо с жесточайшей критикой… Балакирев исполнит «Фатум» в Петербурге. Но после его убийственного отзыва Чайковский посчитает произведение совсем неудачным, почему и будет оно «молчать» десятилетия и ждать своего часа в роковой для Рахманинова день.
О смысле эпиграфа к Первой симфонии можно рассуждать и рассуждать. И не прийти ни к какому выводу. Но его значение в судьбе Рахманинова раскрылось именно в тот час, когда он в зале Дворянского собрания корчился на лестнице, зажав уши, спасаясь от собственной музыки.
…Знаменитый эпиграф, который так часто читают неправильно: «Мне отмщение и Аз воздам». Неотвратимость наказания и злая сила — вот что слышится в таких смысловых ударениях. Но правильное чтение иное: «Мне отмщение и Аз воздам». Не суд человеческий, но суд Божий. Лев Толстой, предпослав такой эпиграф к «Анне Карениной», именно в этом видел его глубинную суть: пусть Анна виновна по людским законам, людским представлениям. Но судить её может только высшая сила, а не слабый ум человеческий.
Можно судьбу героини, судьбу А. К., попытаться связать с судьбой А. Л., услышать в симфонии какие-то невиданные страсти, беду всей жизни той, кого «странствующий музыкант» называл Родная. Но только ли героини касается предсказание: «Аз воздам»?
В романе «Анна Каренина», в сущности, два главных героя. Анна, которая гибнет, и Лёвин, который мечется душевно и не может обрести покой. То, что за неизбывной тревогой второго героя стоит сам Толстой, заметили ещё современники.
«„Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно нельзя жить“, — говорил себе Левин».
Умственные искания своего героя-двойника Толстой описывает подробнейшим образом, как и его смятение:
«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Лёвин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нём, и боялся ходить с ружьём, чтобы не застрелиться».
За этим нескончаемым душевным беспокойством — судьба самого писателя. Толстой поставил точку в романе. «Мне отмщение…» настигло Анну. И всё же судьба Лёвина, как и самого Толстого, не завершена.
«…и Аз воздам». Художественный гений Толстого не приносит ему удовлетворения, он сам не находит себе места в мире. И великий писатель готов взять на себя не только роль сельского учителя, но и возложить миссию учителя жизни. Он отрекается и от искусства, и от художественного слова, от литературы, и от собственного писательского дара.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: