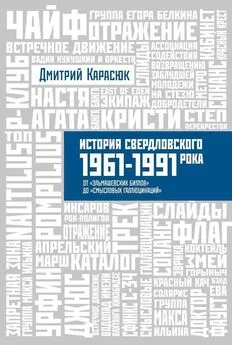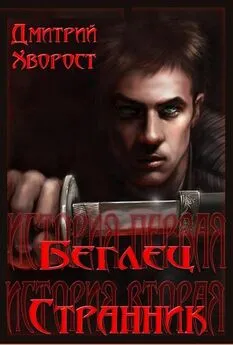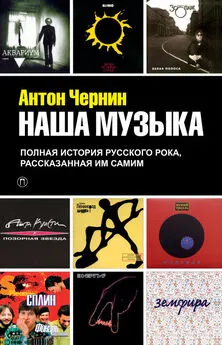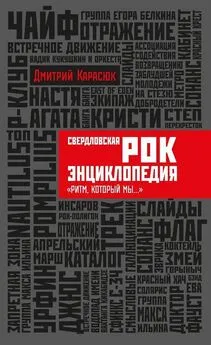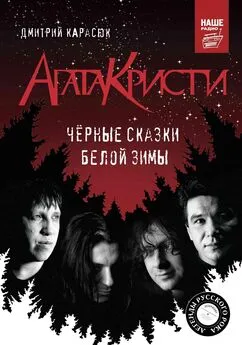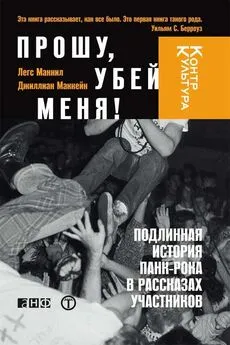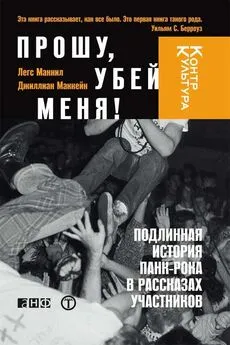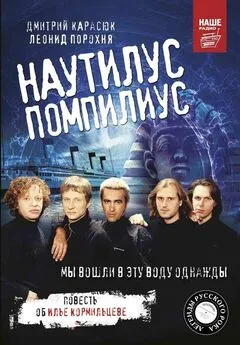Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Название:История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кабинетный ученый
- Год:2016
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-7525-3093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Карасюк - История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» краткое содержание
мощное течение, Гольфстрим, самостоятельно пробивший себе дорогу к любви
и признанию многомиллионной аудитории. В этой книге, написанной в жанре
«опыт исторического исследования», идет речь о людях, больше всего на свете
желавших делать рок-н-ролл или что-то полезное для него. Книга охватывает
период 1961–1991 гг. — время становления и расцвета свердловского рока.
История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возможно, поэтому главный музыкальный эколог России Владимир Шахрин в вопросах окружающей чистоты перешел от глобальных акций к конкретным делам. Последним приветом «Рока чистой воды» стала одноименная пластинка-сборник, куда вошли песни «Чайфа», «Насти», «Телевизора», «АукцЫона» и других групп, участвовавших в движении. 4 августа 1992 года в Екатеринбурге состоялся первый «чайфовский» субботник (то, что на календаре был вторник, никого не смутило). Сначала в Историческом сквере в центре Екатеринбурга собралась сотня добровольцев, в основном студентов и подростков. Владимир толкнул перед ними пламенную речь, и толпа разошлась-разъехалась по трем фронтам работ по уборке мусора: на улицу Гоголя, на пустырь на улице Щорса и в парк у больницы скорой помощи. Группа «Чайф» наравне с остальными трудилась на последнем участке. Работали не просто так, а по-ленински. С соседней стройки притащили бревно («то самое, которое Владимир Ильич таскал в Кремле»), и под ним вместе с «чайфами» мог сфотографироваться любой участник субботника. Потом все вновь собрались в Историческом сквере, где устроили небольшой концерт. Играли молодые группы, а в перерывах между ними — «Чайф».

Такие субботники стали традиционными. Чаще всего проходили они в парке Каменные Палатки, неподалеку от дома Шахрина. Сначала затея казалась просто баловством, но когда триста детей пришли в парк и с энтузиазмом взялись собирать разбросанный мусор, стало ясно, что дело стоящее. Потом были субботники в Историческом сквере, которые всегда заканчивались импровизированным концертом. «Мне тогда наивно казалось, что после таких уборок взрослый человек не станет бросать пустую бутылку в кусты, потому что его ребенок здесь позавчера прибирался, — говорит Шахрин. — Но оказалось, что наших людей этим не проймешь — они бросают бутылку просто потому, что им ее нести до урны лень, просто потому, что родители не приучили его не мусорить. Зато я точно уверен, что те сотни ребятишек, которые нам помогали убираться, сами мусорить не будут».
Альбомы 1990
Первый виниловый альбом «Агаты Кристи» — это произведение, развитие в котором подчиняется музыкальной логике, а не логике слова. Текст музыкален сам по себе — он более эмоционален, чем содержателен. Я думаю, что любой, послушав «Viva, Kalman», легко сможет напеть мотив, но с трудом вспомнит слова.
Музыка альбома — феномен балансировки на грани хорошего вкуса. «Агата» работает с тем, что называется «музыкальный знак», то есть с наиболее характерными оборотами барокко, классицизма, испанской и итальянской музыки. Несмотря на многочисленность и разношерстность стилистических отсылок, музыка альбома как-то очень монолитна. Это и хорошо, и плохо.
Хорошо, потому что музыканты группы — великолепные стилисты, одинаково хорошо себя чувствующие и в высоких, и в низких жанрах. В любом из них для музыкантов важна этакая театральная помпезность. Но плохо, что во всех своих амплуа «Агата» слишком серьезна по отношению к себе. К тому же альбому недостает разноплановости. Всюду царит «итальянистая» мелодичность и сладкозвучие, единообразная плотность и насыщенность клавиш (удачно нарушенная лишь в «Кондукторе»). Не слишком оправдан и финал диска «Бэсса мэ…» с его насыщенной кабацкой многозначительностью. Разухабистый марш магнитоальбома (здесь в изменчивом виде — «Собачье сердце») был более удачен.
Юлия Гасилова.
«Рок-хроника», 1991, № 4 (7)
Итак, в то время как большинство «Зубров» свердловской рок-сцены «затаилось» в 1990 году (возможно, к очередному фестивалю?), «Агата Кристи» успела «выстрелить» в конце года своим альбомом «Декаданс».
Отдав дань в «Коварстве и любви» остросоциальной тематике, группа предстала в новом альбоме более разноликой.
Изящная, легкая и вместе с тем экспрессивная манера В. Самойлова (от «Щекотно», «Мотоциклетки» до «Кошки»), безусловного лидера группы, разбавлена мрачноватым «панковым» стилем его младшего брата («Эксперимент», «Эпидемия»?), от чего музыкальная палитра «Агаты Кристи» только выигрывает. Эпизодические обращения к музыкальной классике сменяются все более устойчивым интересом. Нет, большинство песен альбома по-прежнему выдержаны в новейшем волновом стиле, и все же его музыкальным стержнем является «Декаданс».
В целом слушателей ждет приятный сюрприз. Далеко не всем и не всегда удается прогрессировать от альбома к альбому. Пока у «Агаты Кристи» это получается.
В. Солдатенков.
«Рок-хроника», 1991, № 1 (4)
Более абсолютного авангарда еще не знало свердловское рок-товарищество… Надо отдать должное Сергею Чернышёву, его смелости. Нынешняя ситуация не очень располагает к экспериментам с формой, когда-то разработанной Джоном Кейджом. Минимализм как-то не отражает дух нашего смутного времени. Но если вслушаться, то странности и отстраненности «Банга-банга» проистекают именно из него, из времени.
С технической стороны все безупречно. По сути, первая часть «Банга-банга» — звуковой коллаж. Периодически равномерно возникают то лекция по психоанализу, то африканские напевы и т. п., создавая убаюкивающую атмосферу медитации (чему способствует виртуозность звукорежиссуры). Со стороны содержания — полный туман и неясность. Концепция «Банга-банга» — в отсутствии всякой членораздельности и сформулированности. Можно долго разгадывать ребусы и шарады оформления и звукового материала, но не продвинуться ни на шаг в понимании альбома.
Возможно, Сергей Чернышёв и не сказал ничего нового, возможно, Фрипп, а затем Ино и Бирн (альбом «Моя жизнь в кустарнике с призраками», 1980) полностью исчерпали возможности минимализма и этно-музыкального сюр-коллажа. В таком случае «Банга-банга» и не эксперимент, собственно. Это движение (или прорыв) вовне (или внутрь) подсознания (дальше, дальше) на уровень, где говорить о сознании (даже под или над) не приходится.
Для понимания музыки и теории «Банга-банга» требуется, скорее, осязание, обоняние и телепатия, чем интеллект. Любые логические выкладки не более уместны, чем попытка напиться из дуршлага. Рок-сенсуализм «Банга-банга» доступен лишь избранным. Тем, чье число 666 (см. работы Л. Бинсвангера и альбом «Банга-банга»).
Алексей Коршун.
«Рок-хроника», 1991, № 4 (7)
В XVIII–XIX веках существовало такое направление в европейской живописи — академизм. Художники тщательно выписывали каждый изгиб ветки, складку ткани, локон волос, бились над точной цветопередачей, продумывали перспективу и игру светотени. Их картины восхищали зрителей своей красотой, но не трогали душу. «Внуков Энгельса» вполне можно причислить к академистам. Трое экс-«наутилусовских» «дедов» — Владимир Елизаров, Алексей Хоменко и Виктор Алавацкий, с примкнувшим к ним экс-«чайфом» Игорем Злобиным записали очень красивый альбом. Изысканные мелодии, хорошие аранжировки, исполнение — выше всяких похвал. Тексты Ильи Кормильцева — тоже не хухры-мухры. Правда, они почему-то лишены привычных кормильцевских хлестких, запоминающихся фраз-афоризмов. Но зачем они? Ведь придраться и так абсолютно не к чему, все настолько ровно и гладко, что физически не хватает какой-нибудь шероховатости, за которую ухо могло бы зацепиться. Из одиннадцати песен выделяются лишь три — просто потому, что они спеты по-английски.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: