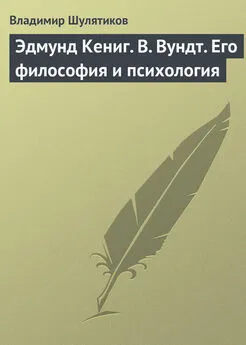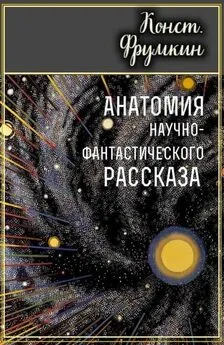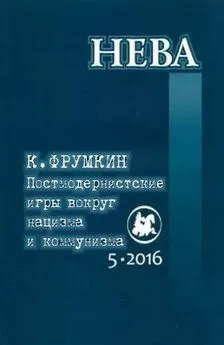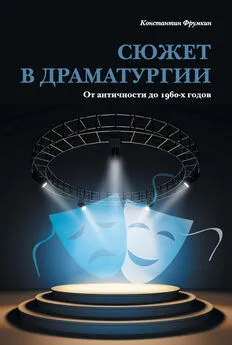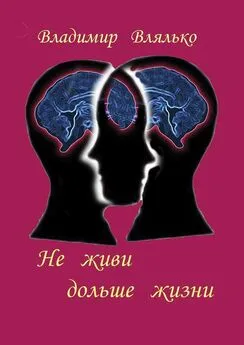Константин Фрумкин - Философия и психология фантастики
- Название:Философия и психология фантастики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Фрумкин - Философия и психология фантастики краткое содержание
Философия и психология фантастики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"Пусть механик со всею точностью своих средств следит за проволокою, на которой весит вывеска, и замечает, что с 12, положим, часов, 13 марта, при совершенно сухой погоде, и вообще при полном сохранении всех внешних обстоятельств, она вдруг начинает усиленно ржаветь, и в один день столько же разрушается, сколько в предыдущие шесть лет, и упала в 12 часов 14 марта на голову человека, совершившего такое-то тайное преступление, как открылось после! "Это - чудо!" - воскликнете вы. Я привожу пример, чтобы дать определение. Чудом называется выход из области "prevoir", не столкновение двух разных нитей фактов, например пешехода и падения вывески, но которого-нибудь звена в одной и той же нити событий" 234).
Вмешательство Бога как причину чудесного Розанов оставляет без внимания, однако розановская интерпретация чудесного вступает в конфликт с лосевской по двум важным пунктам: по Розанову, нарушение природной закономерности для констатации чудесного необходимо, и при этом само чудесное касается не общей оценки всей совокупности фактов, а лишь одного "незаконного", "сверхъестественного" факта, из-за которого весь событийный ряд пошел в ненормальном, т. е. в необычном направлении. В этом аспекте розановской концепции чуда безусловно заключена целая философия "ключевого факта", из которой, впоследствии, вырастет популярное на западе антифаталистическое представление о том, что достаточно изменить некую мелкую, незначительную материальную деталь, чтобы коренным образом изменить ход мировой истории. На эксплуатации этой идеи построены сюжеты таких известных научно-фантастических произведений, как "И грянул гром" Бредбери и "Конец Вечности" Азимова. Раздавленная бабочка Брэдбери является своеобразным "потомков" проржавевшей проволоки Розанова.
Кроме Розанова, среди "титанов Серебряного века" у Лосева есть еще один оппонент. Также в оппозиции к лосевской теории чуда находится толкование этой категории отцом Павлом Флоренским, который как бы развивает другую, незатронутую Розановым половину дефиниции Феофана Кронштадского. В отличие от Розанова, Флоренский ничего не говорит о сверхъестественности ("противозаконности") чудесного, но зато для него решающим становится вопрос о его происхождении. В статье "Суеверие и чудо" Флоренский пишет, что чудо есть любой факт действительности, а также и весь мир в целом, рассматриваемые как благие и проистекающие от благой силы, от воли Бога. В противоположности вере в чудо находится суеверие, которое видит факты как вредоносные и проистекающие от дьявола235).
Заметим, что Флоренский говорит не о сверхъестественном, а именно о любом факте действительности. В этом пункте можно, прежде всего, увидеть симпатию Флоренского к "умильному" православно-старческому отношению к жизни, при котором всякая тварь и всякое событие, начиная с хорошей погоды с утра, рассматриваются как явление Божьей благодати, как Божье чудо. Для такого отношения к жизни характерно использование словесных конструкций вроде "Божий день", "лето Господне" и, наконец, "мир Божий". В том же томе собраний сочинений Флоренского, что и статья "Суеверие и чудо", помещены его воспоминания о блаженном старце Исидоре - человеке, для которого вполне естественно было видеть чудесным "любой факт действительности".
Здесь, однако, возникает одна логическая проблема. Возможно, именно полемизируя со статьей Флоренского, Лосев пишет в "Диалектике", что мифологическое сознание рассматривает весь мир как проявление божества, а значит данный признак не дает основания, чтобы отличить чудесные события от не-чудесных. Данная критика Лосева логически безупречна, и все же механическое применение ее к концепции Флоренского не будет учитывать одной тонкости. Флоренский не просто постулирует влияние Бога на мир, но фиксирует веру в чудо и суеверие как возможные альтернативные объяснения одних и тех же фактов. Таким образом Флоренский ставит констатацию чудесного в зависимость от склонности человека связывать факты действительности с Богом, или говоря шире - от человеческой интерпретации. Флоренский, безусловно, верил в существование Бога и его объективное влияние на мир, но способность человека обнаруживать это влияние и, соответственно, констатировать чудесное оставалось для него делом субъективным. Чудо возникало лишь при готовности человека рассматривать некий факт как благой и идущий от Бога. Соответственно, отличие чуда от не-чуда оказывалось производной от нестойкой динамики субъективного "рассмотрения". Но ведь и сам Лосев писал про чудо, что "это - модификация смысла фактов и событий, а не сами факты и события. Это - определенный метод интерпретации исторических событий, а не изыскание каких-то новых событий как таковых" 236).
Мы можем предположить, что с точки зрения Флоренского, святые люди, безусловно, обладают предельно расширенным сознанием - они видят благость всего мира, и весь мир считают чудом. "Видение" обычных людей зашлаковано, и они выделяют в качестве чудесных и особым образом связанных с Богом лишь некоторый факты действительности. С этой точки зрения и сама "сверхъестественность", т. е. нарушение законов природы, должна быть рассмотрена не как конститутивный момент чудесного, а лишь как симптом, по которому некоторые недальновидные и лишенный святости люди ищут присутствие Бога в повседневной действительности. Лосев в "Диалектике" постулирует некое "Мифологическое сознание", но мифологичность сознания может иметь разные степени концентрации, и в частности в одном и том же сознании может наблюдаться разная концентрация мифологических толкований в связи с отдельными фактами. Да, собственно, Лосев и сам это понимает, когда уже в конце своего раздела о чудесном, как бы забывая о собственной критике, заявляет, что чудо относительно, и выдвигает следующий тезис: "Решительно все на свете может быть интерпретировано как самое настоящее чудо, если только данные вещи и события рассматривать с точки зрения изначального блаженно-личного самоутверждения" 237). Несколько огрубляя, можно сказать, что Флоренский как бы предвидел возражения Лосева, утверждавшего, что в мифологическом мышлении любое действие - акт Бога. Оказывается - не любое, по крайней мере в некоторых обстоятельствах, с точки зрения некоторых лиц, некоторые факты могут рассматриваться как деяния дьявола.
Стоит также отметить, что в современном православном богословии концепция "суеверия", т. е. интерпретации чудес как порожденных нечистой силой, используется для оценки чудес в иных, не христианских религиях. Примером использования данного полемического приема может служить статья Ю. Максимова "Чудеса в христианстве и исламе"238). Максимов на материале святоотеческой литературы доказывает, что православные не должны обязательно отрицать факты чудес, совершаемых пророком Мухамедом и другими мусульманскими чудотворцами. Однако с точки зрения православного богословия эти чудеса называются порожденными дьяволом. Важным доказательством этого, по мнению Максимова, является тот факт, что исламские чудотворцы не оживляли мертвых - считается, что дьявол способен на любые чудеса, кроме воскрешения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: