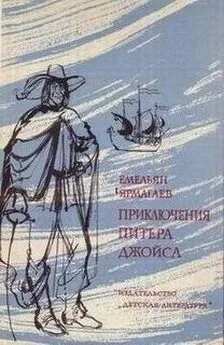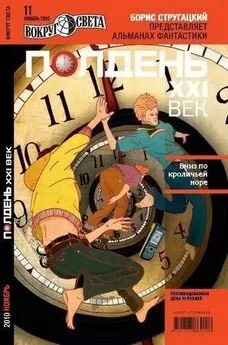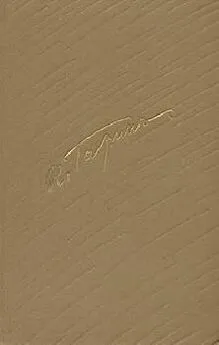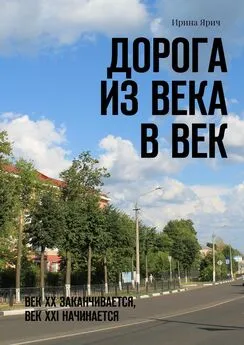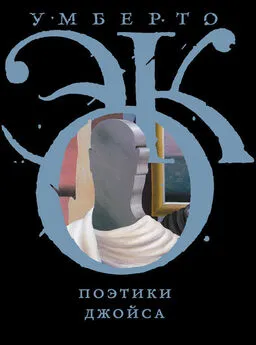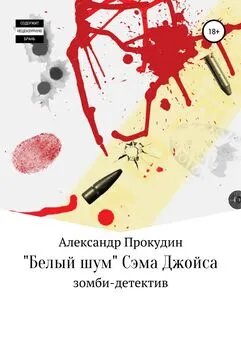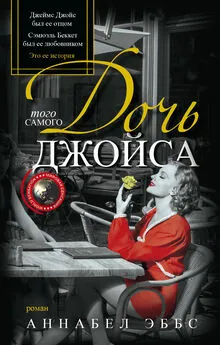И Гарин - Век Джойса
- Название:Век Джойса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Гарин - Век Джойса краткое содержание
Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу. Его духовной иррадиации не избежали даже те, кто не читал "Улисса". А до последнего времени у нас не читали: с 67-летним опозданием к нам пришел полный "Улисс", о котором в мире написано в тысячу раз больше, чем сам роман. В книгу вошли также очерки-эссе об Ибсене, Кэрролле, Йитсе и других писателях, чье творчество, по мнению автора, предваряло, предвосхищало, готовило наступление века Джойса.
Век Джойса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Настоящее время — всегда неизвестное прежде, новое время; у Пруста сознание работает над настоящим моментом, лишая его новизны, сводя к какому-нибудь повторению, реминисценции. Сознание не хочет признать настоящий момент, он не допущен в чертоги сознания.
Настоящее время, присутствие — тяжкая трудность, их надо снести и преодолеть. Сознание не открыто всем впечатлениям, и не впечатление дорого для него, а лишь особое впечатление, реминисценция, что-то в присутствующем настоящем такое, что "одновременно" с прошлым отсутствующим, помещается "в промежутке", изъято из объективного времени. Причем, по Прусту, когда-то бывший момент лишь в повторении, реминисценции впервые становится подлинно настоящим, присутствующим — только когда практически он отсутствует; как сказано в "Пленнице", прошлое осуществляется лишь после будущего, мы его "давно сохраняли в себе и вдруг научаемся прочитать".
Поток современной жизни проносится мимо, человек не успевает за ним, он — жертва этого темпа, движение тащит его за собой. Он не успевает включиться, понять, разобраться, вмешаться, освоить и оценить, он лишь успевает запечатлеть собой эмпирические сиюминутные впечатления, надобности, заботы, тревоги, страхи, которые тут же стираются новыми. Их человек не усваивает себе, не хранит, не накапливает впечатления, опыты, не может ими владеть, но лишь отражает их смену, он стал отражающей пленкой. Он в самом деле "количественная единица, заполненный момент времени".
Наше прошлое, замечает Пруст в одном месте, отбрасывает от себя тень, "которую мы называем будущим". Это значит, что всякое будущее, которое может наступить и стать настоящим, должно являться как бы в тени, оно само должно быть отброшенной тенью от чего-то бывшего прежде.
Глубина этих мыслей о "прошлом, осуществляющимся после будущего", и о "прошлом, отбрасывающим тень", все еще не усвоена нами. Не оттого ли вся наша история не имеет будущего, вечно оставаясь "прошлым после будущего"?.. Чуть-чуть перефразируя Пруста, можно сказать, что "мы строим себе жизнь ради определенного призрака, и когда наконец мы можем принять его в построенном здании, он не приходит, потом умирает для нас, и мы живем пленниками дома, предназначавшегося только для него". "Разве это не классическое описание того, как строят воздушные замки?".
Прустовская проблема "время и память" обладает той будоражащей глубиной, наполнена тем чувством, которое каждый испытывает на краю бездны: память есть извлечение временного опыта во вневременном измерении. В человеке одновременно соприсутствуют все времена и все когда-либо испытанные ощущения, память устроена таким образом, что маленький толчок способен раскрыть огромный забытый мир и побывать в нем. Строку Блейка "в каждом миге видеть вечность" Пруст перелагает на язык философии времени: "это непредставимое и чувственное измерение [мгновения, времени] существует". Сам Пруст признавался, что вся его философия сводится к тому, чтобы реконструировать и оправдать реальность. Антиутопичность прустовского модернизма в этих двух моментах: вечность-в-мгновении (вневременное измерение мира и сознания) и оправдание всего существующего.
На самом деле философия Пруста в целом и философия времени в частности гораздо глубже: время — мера самораскрытия эволюционизирующего духа; сформулированные нами законы или императивы — здесь и сейчас, придут новые времена — будут новые сущности…
А наше сознание в обычном своем состоянии — неграмотное сознание, и философия просто есть один из несовершенных человеческих способов преодолевать и останавливать, потому что неграмотность, в отличие от грамотности, действует спонтанно, автоматически, а грамотность и ум предполагают усилие, ежеминутное возобновляемое и повторяемое, потому что ум — это как раз то, чего нельзя иметь раз навсегда, то есть один раз получить и потом уже держать его у себя в кармане…
Смысл времени, его божественное назначение именно в этом — движении сознания, которое и есть главный герой модернистской эпопеи.
Единственное средство восстановить потерянное время, считал Пруст, это жизнь сознания, его творчество, ослепительный свет произведения искусства. Искусство — остановленное время, возврат во времени, фантастический прорыв сквозь время.
Впрочем, Пруст не довольствуется возвратом потерянного — его дерзновение не знает границ: не просто вернуть прошлое, но воздействовать на него, изменить его собой, настоящим. В эпопее-симфонии два потока времени сосуществуют — "прошлое в настоящем" и "прошлое, измененное настоящим". Ведь парадокс времени именно в том, что не только прошлое творит настоящее, но появление каждого гения заставляет по-другому прочитывать созданное прошлым, находить в нем упущенное им самим.
М. Мамардашвили:
Но, к сожалению, все комментаторы и читатели воспринимают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое (движется к прошлому), для которого прошлое — идеал. А Пруст все время предупреждал, что не в прошлом дело, не прошлое он хочет восстановить и, восстановив прошлое, насладиться прошлыми событиями, прошлыми переживаниями, восприятиями. Именно в этих случаях, когда он говорил, предупреждал об этом, он повторял: да не там, между прошлым и настоящим. Вот это словечко "между" нас должно заинтересовать. Тем более что потом он вместо "между" будет говорить — вне времени. Время в чистом виде, вне времени. Это — противоречивое словосочетание. И вот это словечко "между" нужно соединить с тем словом, которое я приводил вам и пометил, со словом "вне". Вне себя. То есть со словом "экстериоризация". Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического богатства души, не во внутренний духовный мир, духовную жизнь, в то, что мы называем внутренней духовной жизнью, — есть якобы какие-то глубины сердца, непостижимые глубины чувства и т. д. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечатления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение — вне.
Новое переживание времени обусловлено ослаблением связей Пруста с жизнью: пребывание как бы вне времени рождалось воображением, обостренностью чувств, потребностью обрести новые наслаждения взамен навсегда утраченных.
Всю жизнь реальность меня разочаровывала, потому что в тот миг, когда я ее воспринимал, воображение — единственный орган восприятия прекрасного — не могло наслаждаться ею в силу неотвратимого закона, гласящего, что нельзя вообразить то, что и так существует. И вдруг суровый закон отменяется на время благодаря волшебной хитрости природы, поманившей меня полузабытым ощущением… из прошлого, что дало возможность воображению расцветить его всеми красками, и позволившей моим органам чувств, в настоящем уловившим звук и прикосновение, добавить к полету фантазии то, чего ему обычно недостает — ощущение реальности происходящего; благодаря этой уловке мое существо смогло получить, вычленить и остановить — лишь на короткое мгновение — то, что ему никогда не удавалось удержать: частицу времени в чистом виде. Существо, возродившееся во мне, когда, трепеща от счастья, я уловил звук, напомнивший и звяканье ложечки о тарелку, и молоток, бьющий по колесу; когда почувствовал под ногами неровную мостовую во дворе у Германтов и в базилике св. Марка — существо это питалось только сутью вещей, только в ней обретало оно плоть и отраду. Оно томилось в наблюдениях за настоящим, где органы чувств не могли дать ему эту пишу, в размышлениях, иссушающих прошлое, в ожидании будущего, которое воля выстраивает из обрывков прошлого и настоящего, лишая их всякой реальности и оставляя лишь то, что может послужить сугубо практическому и житейскому назначению. Но стоит нам вновь заслышать знакомый звук, вдохнуть знакомый запах, принадлежащий и прошлому и настоящему, реальный, но не насущный, идеальный, но не абстрактный, — как непреходящая и обычно скрытая суть вещей высвобождается, и наше истинное "я", казавшееся давно умершим (но, как выясняется, не вполне), пробуждается и оживает при виде снизошедшей к нему манны небесной. Само мгновение, освобожденное от связи времен, чтобы мы смогли его познать, возрождает в нас человека, свободного от этой связи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: