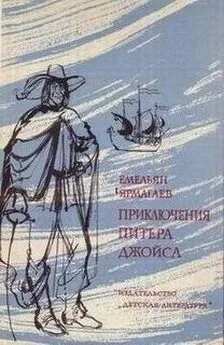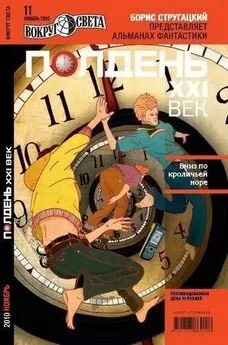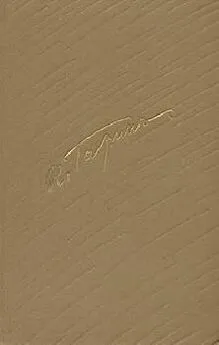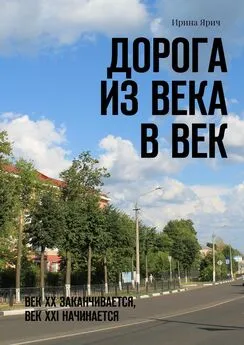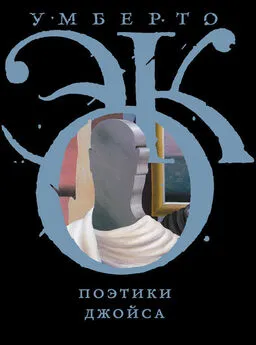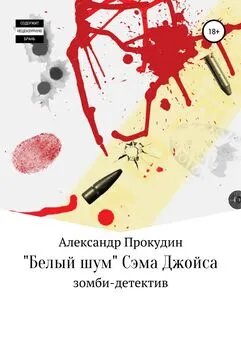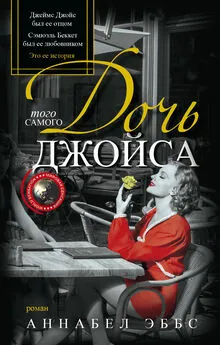И Гарин - Век Джойса
- Название:Век Джойса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Гарин - Век Джойса краткое содержание
Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу. Его духовной иррадиации не избежали даже те, кто не читал "Улисса". А до последнего времени у нас не читали: с 67-летним опозданием к нам пришел полный "Улисс", о котором в мире написано в тысячу раз больше, чем сам роман. В книгу вошли также очерки-эссе об Ибсене, Кэрролле, Йитсе и других писателях, чье творчество, по мнению автора, предваряло, предвосхищало, готовило наступление века Джойса.
Век Джойса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как и Шопенгауэр, он был постоянно не в ладу с собой. Как и Шопенгауэр, уравновешивал страх смерти страхом жизни.
Трудно выносить такую степень опустошенности, когда страх смерти преодолевается страхом жизни. Несмотря на горькие слова Кафки, что он "навеки прикован к самому себе", он столь же часто чувствовал, что "не очень способен выносить полнейшее одиночество".
Это тоже сближает его с Шопенгауэром, как и отношение к жизни как пелене, сну, покрывалу Майи.
Магия, миф, сон — вот глубинные сущности подлинного реализма.
Его искусство — искусство проклятого мира, его сознание — сознание этого проклятья.
Такие безумцы, как он, видят мир очень ясно, яснее здоровых. Форма, покров, оболочка, шкура для них как бы исчезают. Ничто уже не мешает зреть самое сущность, нутро. Отсюда — тошнота…
Чтобы уяснить Кафку, мало его искусства. Его дневники, его письма, его, жизнь сплавлены воедино с его творчеством, которое нельзя понять в отрыве от них.
Чем дольше длится безысходность…
Это ложь, что его отчаяние было беспредельным. Те, кто хорошо знаком с его творчеством, знают, что отчаяние и надежда всегда в нем сосуществовали, друг другу не уступая.
БЕГСТВО ОТ СВОБОДЫ
В своем постижении человеческой несвободы модернизм стал продолжением философии жизни в искусстве. Он отразил то, что почти всегда ускользало от реалистов, — подчиненность человека внутренним иррациональным силам, которые трудно преодолеть и с которыми опасно бороться. Вырвав человека из общества, из истории, из времени, из пространства, модернизм вскрыл его внутренний мир, оставив за дверьми морга, как излишнюю одежду, его социальность, рациональность, рассудочность, идеологичность. Гиперболизацией человеческого отчуждения модернизм компенсировал утопическое мессианство лжепрометеев. Это был не упадок искусства, но искусство человеческого упадка. Осознанного упадка-падения.
Философия в образах — сила ее воздействия максимальна. Видимо, философия грядущего будет именно такой: слияние образа с идеей.
Прикованный личной болью к трагедии жизни, Кафка острее других ощущал абсурдную компоненту бытия. Ведь только страдание делает человека визионером. Бесцельность пережитого зла превратила его в пророка пессимизма. Как ягель накапливает продукты ядерных взрывов, так он копил в себе абсурд существования. И то, что из этого накопления получилось, — не было просто новым искусством, это была новая модель мироздания — субъективная, но неопровержимая.
Он увидел в мире то, что Сартр хотел узреть в Тошноте: нутро вещей. Его субъективный мир — это глубинная иррациональность, трансцендентность мира.
Кафкианская модель мира неоднозначна, конъюктивна, полисемична, любая ее однозначная трактовка недостаточна. Даже дисгармоничность, даже фундаментальность одиночества и отчуждения, даже сущностная антиномичность личности и общества, даже принципиальная непознаваемость — только единичные трактовки. Ведь логика абсурда может быть воспринята как глубочайшая сатира (сатира и есть!), даже враждебность мира человеку — как величайшая боль! В отличие от Дедала, даже трагедийность Кафки неокончательна: изучая метафизические проблемы жизни и смерти, он ведь не решает их, но оставляет решение нам.
Когда Томас Манн дал одну из книг Кафки Альберту Эйнштейну, последний вскоре вернул ее со словами: "Я не смог прочитать ее, ум человека недостаточно к этому готов". Дело не в том, что Кафка был недоступен его пониманию, — просто несовместимость структур личностей препятствовала резонансу предельно амбивалентного и напряженного "мира Кафки" со "здоровым", не склонным к излишней рефлексии "миром Эйнштейна".
Страдание возвышало Кафку над безразличием, которым живет этот мир. Оно — свидетельство не болезненности и беспорядочности его искусства, но, наоборот, — высокой ответственности и глубины. Вопреки всем своим сомнениям, он творил, как подвижник — самозабвенно, вдохновенно и увлеченно. "Я уважаю лишь те мгновения, когда создавал". И подвижничество это тоже документировано: "Писать буду, несмотря ни на что, во что бы то ни стало".
Великий художник жил в нем по соседству с визионером. Внезапные прозрения его героев — спонтанный поток интуиции их творца.
Это творчество-пророчество, творчество-ясновидение, творчество-откровение, творчество-озарение. В Исправительной колонии предвидение сущности и конца тоталитаризма, в Отчете для Академии осознание сущности свободы, в Процессе — бюрократии, в Замке — фашизма и социализма. Это творчество-обнажение, творчество-страдание, творчество-крик.
Но как бы его не трактовать, сегодня мы знаем: его провидение бледнеет перед нашими реалиями, чего не коснуться…
Дабы узреть сущность, надо видеть не так, как все. Он был обречен видеть не так — судьбой, генами, национальностью, жизнью, временем — всем. Всё это отстраняло его от мира — отсюда необыкновенная зоркость.
Но кроме личных, индивидуальных особенностей, важным истоком его творчества было коллективно-бессознательное: беспочвенность европейского еврейства, слабость веры при глубинной тяге к ней, может быть, еще более глубокое — веками внушаемое — чувство греховности нации. Но отсюда и ощущение в себе иудейского пророка, неизменно подчеркиваемое его апостолом Максом Бродом.
В сущности все его герои — чистые юнговские архетипы: мессии, безуспешно штурмующие небо (землемер К., Йозеф К.); утомленные, жаждущие покоя боги (отец в Превращении ив Приговоре, чиновники в Замке и в Процессе); взыскующие спасения и добродетели (почти все женские персонажи). Все они из сизифова рода, а их неудачи восходят к наказанию человека за то, что грешник так и не оплатил плод с древа познания добра и зла.
Даже имена его героев — только символы: Йозеф К. - Joseph-stadt, пражское гетто, Сордини — сурдинка, "труба" последнего суда, Амалия легендарная Амальбурга, преследуемая любовью наследника Бога на земле, Замза — sam isem, "я один". Возможно, эти трактовки излишне буквальны и слишком узки для кафкианской многозначности, но даже в буквальности своей они бесконечно содержательны.
Болезненно обостренная впечатлительность, интуиция боли, открыли ему огромный тайный мир, но даже в самых ярких своих откровениях он недооценивал чудовищности человека: предугадав насилие, страх, растоптанность, он не мог представить себе количеств поверженной плоти, всепроникающей мощи оскопления. Досталинский сюрреализм был правдив, но бестелесен. Потребовались мы и еще одно поколение визионеров, потребовались Платонов и Шаламов, чтобы апокалипсис стал личным опытом, не оставляющим альтернатив насилию.
Кафка подготовил искусство боли, но жгучесть и непереносимость пришли позже — вместе с тем, от чего наши остервенело открещивались, — с искусством абсурда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: