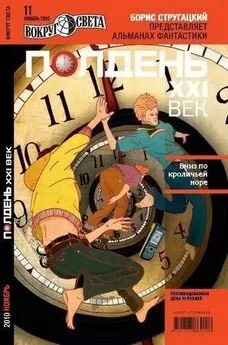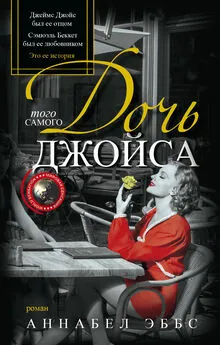И Гарин - Век Джойса
- Название:Век Джойса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Гарин - Век Джойса краткое содержание
Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу. Его духовной иррадиации не избежали даже те, кто не читал "Улисса". А до последнего времени у нас не читали: с 67-летним опозданием к нам пришел полный "Улисс", о котором в мире написано в тысячу раз больше, чем сам роман. В книгу вошли также очерки-эссе об Ибсене, Кэрролле, Йитсе и других писателях, чье творчество, по мнению автора, предваряло, предвосхищало, готовило наступление века Джойса.
Век Джойса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ты права, когда, памятуя об этом страхе, упрекаешь меня за мое поведение в Вене, но страх этот в самом деле странен, внутренних его законов я не знаю, знаю только его хватку на своем горле, и это поистине самое ужасное, что я когда-либо испытывал или мог бы испытать.
Тогда, наверное, получается, что каждый из нас живет в супружестве — ты в Вене, я со своим страхом в Праге, и мы оба — не только ты, но и я — тщетно пытаемся порвать эти узы. Ведь смотри, Милена: если б тогда в Вене ты была полностью во мне убеждена (согласна со мной вплоть до походки, которая тебя не убедила), ты бы сейчас уже не была вопреки всему в Вене — точнее говоря, уже не существовало бы никакого "вопреки", а ты просто была бы в Праге, и все, чем ты утешаешь себя в последнем письме, — оно и есть утешение, не больше. Ты не согласна?
Ведь если б ты сразу приехала в Прагу или, по крайней мере, сразу бы приняла такое решение, это не было бы для меня доказательством в твою пользу — относительно тебя я не нуждаюсь ни в каких доказательствах, ты для меня превыше всего, ты сама ясность и надежность, — но и это было бы великим доказательством в мою пользу, а я в нем-то и нуждаюсь. Тут страх мой тоже находит дополнительную пищу.
Снова и снова рассуждая в письмах об этих вещах, неизменно приходишь к выводу, что ты связана со своим мужем (как у меня расшатались нервы, мой корабль, кажется, потерял управление за эти дни) узами какого-то поистине сакраментального нерасторжимого брака, а я такими же узами связан — уж не знаю с кем, но взгляд этой ужасной супруги часто лежит на мне, я это чувствую. И самое удивительное то, что, хотя каждое из этих супружеств нерасторжимо и, стало быть, тут не о чем больше говорить, — что, вопреки всему, нерасторжимость одного брака составляет и нерасторжимость другого во всяком случае, подкрепляет ее — и наоборот. Так что приговор, вынесенный тобою, остается в силе: nebude toho nikdy ** — и давай не будем больше никогда говорить о будущем, только о настоящем.
** Этого не будет никогда (чешск.).
Эта истина безусловна, неколебима, на ней зиждется мир, но сознаюсь все же, что чувству моему (только чувству — истина же остается, как была, безусловной. Знаешь, когда я решаюсь написать то, что далее последует, то мечи, чьи острия венцом окружают меня, уже приближаются медленно к моему телу, и это самая изощренная пытка; им стоит только царапнуть меня — я уж не говорю пронзить, только царапнуть, — как мною овладевает такой ужас, что я готов тотчас же, с первым же вскриком выдать и предать всё — тебя, себя, всё), — вот с этой оговоркой я сознаюсь, что переписка о таких вещах чувству моему (повторю еще раз — ради самой жизни моей — только чувству!) представляется какой-то дикостью — будто я, живя где-то в Центральной Африке и прожив там всю свою жизнь, сообщаю в письмах тебе, живущей в Европе, в центре Европы, свои неколебимые мнения о насущных политических преобразованиях. Но это только метафора, глупая, неловкая, ложная, сентиментальная, жалкая, нарочито слепая метафора и ничто другое — а теперь вонзайтесь, мечи!
Я едва отваживаюсь читать твои письма; могу их читать лишь с перерывами — не выдерживаю боли при чтении. Милена, — и снова я раздвигаю твои волосы и отвожу их в стороны — в самом ли деле такой я злой зверь, злой с собой и такой же злой с тобой, или вернее назвать злым то, что стоит за мной и травит, терзает меня? Но я даже не отваживаюсь назвать его злым; только когда я пишу тебе, мне так кажется, и я это говорю.
А вообще всё так и есть, как я написал. Когда я пишу тебе, о сне и мечтать не приходится — ни до, ни после; когда не пишу, то, по крайней мере, могу заснуть — самым хрупким сном, на час, не больше. Когда я не пишу, я чувствую только усталость, печаль и тяжесть на душе; когда пишу, меня терзают беспокойство и страх. Мы ведь умоляем друг друга о сострадании: я молю тебя позволить мне укрыться, забиться куда-нибудь, а ты меня — но сама эта возможность безумна, ужасно абсурдна.
Ты спрашиваешь: как же это возможно? Чего я хочу? Что я делаю?
Отвечу примерно так: я, зверь лесной, был тогда едва ли даже и в лесу, лежал где-то в грязной берлоге (грязной только из-за моего присутствия, разумеется) — и вдруг увидел тебя там, на просторе, чудо из всех чудес, виденных мною, и все забыл, себя самого забыл, поднялся, подошел ближе, еще робея этой новой, но и такой родной свободы. Я все же подошел, приблизился вплотную к тебе, а ты была так добра, и я съежился перед тобой в комочек, будто мне это дозволено, уткнулся лицом в твои ладони и был так счастлив, так горд, так свободен, так могуч, будто обрел наконец дом неотступна эта мысль: обрел дом, — но по сути-то я оставался зверем, чей дом — лес, и только лес, а на этом просторе я жил одной лишь милостью твоей, читал, сам того не осознавая (ведь я всё забыл), свою судьбу в твоих глазах. Долго продолжаться это не могло. Даже если ты и гладила меня нежнейшей из нежнейших рукой, ты не могла не углядеть странностей, указывавших на лес, на эту мою колыбель, мою истинную родину, и начались неизбежные неизбежно повторявшиеся разговоры о "страхе", они терзали мне (и тебе, но тебе незаслуженно) душу, каждый мой обнаженный нерв, и мне становилось все ясней, какой нечистой мукой, какой вездесущей помехой я был для тебя…
Милена, зачем ты пишешь о нашем совместном будущем, ведь оно никогда не наступит, — или потому ты о нем и пишешь? Однажды вечером мы в Вене вскользь об этом заговорили — и уже тогда у меня было чувство, что мы ищем кого-то хорошо нам знакомого, без кого мы скучаем, мы зовем его, называем самыми ласковыми именами, а ответа нет; да и как он мог ответить, его ведь не было ни рядом, ни далеко окрест.
Мало есть несомненных истин в мире, но вот эта из их числа: никогда мы не будем жить вместе, в общей квартире, бок о бок, с общим столом — никогда; даже общего города у нас не будет. Я сейчас чуть не сказал, что так же в этом уверен, как и в том, что завтра утром не встану с постели (вставать одному! Я сразу вижу себя под самим собой как под тяжелым крестом, он придавил меня, я распластан ничком, и какая тяжкая предстоит работа, прежде чем я смогу хоть немного прогнуться и приподнять навалившийся на меня труп) и не пойду в бюро. И так оно и есть — я наверняка не встану, но если, для того, чтоб встать, понадобится усилие лишь чуть большее, чем это в человеческих силах, я его, пожалуй, и сделаю — чуть выше сил человеческих я уж как-нибудь поднимусь.
Но ты все эти рассуждения — насчет того, чтоб подняться, — не воспринимай буквально, на самом деле не так уж всё плохо; в том, что я завтра утром встану, я уверен все-таки больше, чем в самой даже отдаленной возможности нашей совместной жизни.
Тебя страшит мысль о смерти? А я только ужасно боюсь боли. Это дурной признак. Желать смерти, а боли не желать — дурной признак. А в остальном можно рискнуть на смерть. Тебя выслали в мир, как библейскую голубку, ты не нашел зеленой ветки и снова заползаешь в темный ковчег.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: