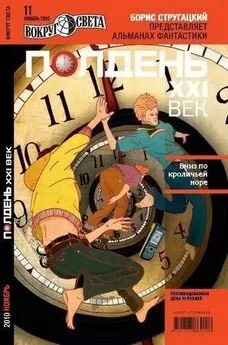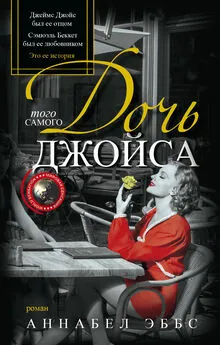И Гарин - Век Джойса
- Название:Век Джойса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Гарин - Век Джойса краткое содержание
Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу. Его духовной иррадиации не избежали даже те, кто не читал "Улисса". А до последнего времени у нас не читали: с 67-летним опозданием к нам пришел полный "Улисс", о котором в мире написано в тысячу раз больше, чем сам роман. В книгу вошли также очерки-эссе об Ибсене, Кэрролле, Йитсе и других писателях, чье творчество, по мнению автора, предваряло, предвосхищало, готовило наступление века Джойса.
Век Джойса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Задолго до Кафки австрийская культурная традиция была бегством от мира в его недра. Даже уход Раймунда, Нестроя и Штифтера в идиллию на поверку оказывался катастрофичным. Айзенрайх так и говорил: Штифтер не был идилликом, он накладывал языковые скрепы на распадающийся вещный мир.
Т. Манн:
Часто подчеркивали противоречие между кроваво-самоубийственным концом Штифтера и благородной умиротворенностью его поэтического творчества. Но куда реже замечали, что за спокойной, вдумчивой пристальностью как раз и кроется тяготение ко всему экстраординарному, первозданно-катастрофическому, к патологии.
Веселый Апокалипсис — вот как называли это время, время Гофмансталя. И сам Гофмансталь, хранивший почти не знавшую сомнений верность империи Габсбургов, по словам Броха, ясно распознал окружавший его вакуум ценностей.
Если у Штифтера почти не было отрицательных героев, то у Шницлера положительных. Но он не судит этих своекорыстных эгоистов, а пытается чуть ли не в духе Фрейда понять психологические истоки человеческих качеств, и это проникновение в подсознание столь глубоко, что сам Фрейд увидит в Шницлере своего двойника, а Лейтенант Густль приобретет почти столь же скандальную славу, что и лекции Фрейда в Венском университете. "Подобно тому как Фрейд срывает покровы с тайн плоти, Шницлер разоблачает тайны личности на поверхности одержимой офицерской честью, а в глубине представляющей собой человеческое ничто".
Австрийскому гению, как никакому иному, выпала на долю эта проклятая чиновничья лямка. Гофраты, пишущие драмы и стихи, клерки, создающие Процессы и Замки, ученые, между делом творящие литературные сенсации. Вот уж поистине их высшее искусство — для потомства: "Вы желаете стать знаменитым? Тогда потрудитесь скончаться".
Нет, они цеплялись за жалкое чиновничье существование вовсе не потому, что не верили в себя — при всех свойственных затворникам сомнениях — в глубине души они знали себе цену и то, что их время еще не пришло. (Не могу себе представить, чтобы человек, написавший тот же Процесс или тот же Замокда чего там — любую, самую маленькую из своих притч, — не знал, кто он). Кафка, Музиль, Хаймито фон Доде-рер, Элиас Канетти, Фриц фон Герцмановски-Орландо, Жорж Зайко годами и десятилетиями выдерживали свои написанные между делом шедевры в ящиках письменных столов не из боязни дилентантизма — из знания человеческих свойств. Роберт Музиль голодал, но писал Человека без свойств, для Канетти Ослепление было побочным продуктом дающего хлеб многотомного научного труда Масса и власть, Герцмановски-Орландо, сатирик свифтовского толка, так и не отважился опубликовать свою Тараканию за 77 лет жизни…
В Массе и власти Элиаса Канетти я обнаружил прелюбопытную мысль, вложенную в уста параноика, говорящего, что он не является писателем и поэтому за ним можно следовать повсюду без опаски. Это очень глубокая максима, означающая, среди прочего, следующее: сила слова опасна, ибо несет в себе огромный потенциал заражения; проповедуемые писателем идеи часто разрушительны, ибо под облаткой "великих идеалов" скрывают действенную некрофилию, глубоко спрятанные вожделения, волю к власти и т. п.; литература притязает "пасти народ", то есть частично берет на себя функцию власти; писательство есть выражение воли к власти над сознанием народа, а власть несет в себе смертельную угрозу (ибо угроза и смерть — глубинная сущность власти). Как бы не относиться к идеям Э. Канетти, нельзя не отметить того, что именно в стране, писатели которой ставили перед собой задачу "пасти народ" — я имею в виду, в первую очередь, Достоевского и Толстого — произошло всё то, о чем пишет Канетти. Еще один любопытный факт: когда возникла идея перевода Массы и власти на русский, автор — совершенно неожиданно — посчитал такое издание преждевременным: в стране вековечного рабства, страха, нестабильности, узурпации власти демонстрация тайных пружин и методов, используемых властью для подавления масс, может принести вред, снабдив рвущихся к власти авантюристов знанием механизмов угнетения и подавления масс. Трудно сказать, в какой мере справедлива вера в силу Книги, но истина действительно амбивалентна: неся миру свет и добро, она в равной мере открывает новые горизонты зла.
Для чего мне потребовалось это литературное отступление? Во-первых, для того, чтобы развенчать чисто "русскую" и чрезвычайно опасную идею "воспитания" народа посредством Книги, нередко благими намерениями устилающей дорогу в ад. Во-вторых, для того, чтобы противопоставить "модернизм" — "положительному герою", концепции "типичности", вообще "реализму", прячущему за "отражением" глубинное желание писателя вербовать инсургентов,' "приравнивать перо к штыку"…
КАФКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
ДантеКафка — это сверхчеловеческий протест против нечеловечности, протест, восходящий к скепсису Аристофана, Лукиана, Данте, христианских еретиков, Вольтера, Шелли, Гёльдерлина, Леопарди. Это вечный, нескончаемый процесс, в котором отчуждение проникает из гёте-шиллеровского мира вещей в киркегорианскии мир духа. Каждая эпоха имеет не только своего Прометея, но и своего Кафку. На что уж далек Аристофан, но разве в его Осах не витает дух Процесса?
Глубочайшая культура — от библейских пророков (травестия Евангелия содержится в его притчах, хотя они и не сводятся к ней) до титанов-современников (Гамсун, Брох, Верфель, Му-зиль, Гауптман, Т. Манн, А. Франс) — питала его.
Мифологизм Кафки глубоко укоренен традицией романтиков: теориями Шлегеля и Шлейермахера, практикой Новалиса и Клопштока, болью Гёльдерлина и Клейста, трагическим одиночеством Леопарди. В известной мере он — средоточье их всех.
Но наиболее полнозвучно кафкианский экспрессионизм слышится у Арнима. Когда в Глухаре ноги беседующего с самим собой бастарда начинают удлиняться от скуки, а ветер посвистывает в зубах, или когда в Наследниках в видениях молодого владельца майората на козлах коляски появляется смерть, а калеки, ее окружающие, требуют у страшного кучера вернуть им отрезанные руки и ноги, или на улице из картонных домиков появляются висящие на нитях шевелящиеся люди, или в снах Эсфири исчезают предметы внешнего мира, — это всё устами Арнима уже говорит Кафка.
А разве в Амфитрионе, Пентесилее и Михаэле Кольхаасе уже в полный голос не звучат темы трагического одиночества, униженности и абсурдности человеческого удела?
Фатальная безрезультатность борьбы — этим Кафка вторит Клейсту. Бороться за справедливость в мире, где зло неотделимо от добра, безнадежно. Малейшее усилие освободиться только еще туже затягивает удавку; все усилия Кольхааса вырваться из засасывающей его трясины ведут к гибели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: