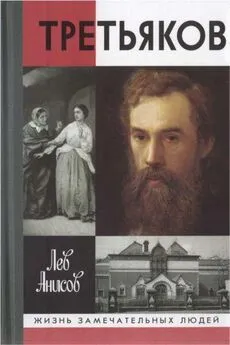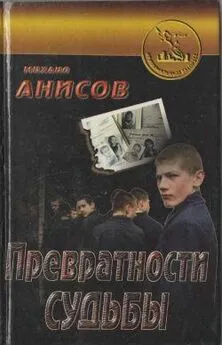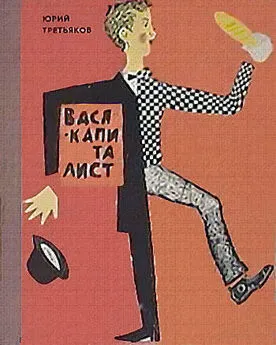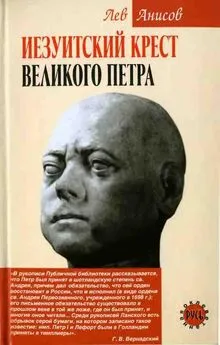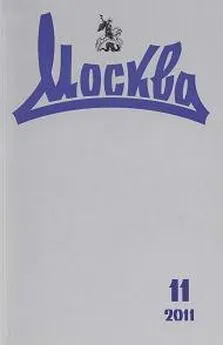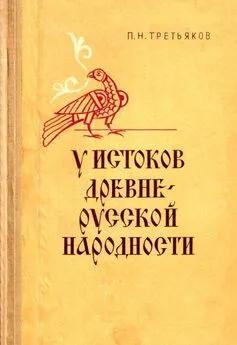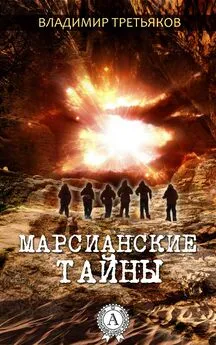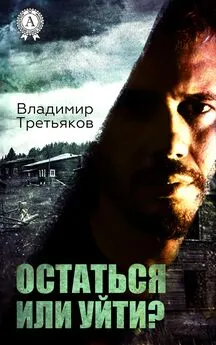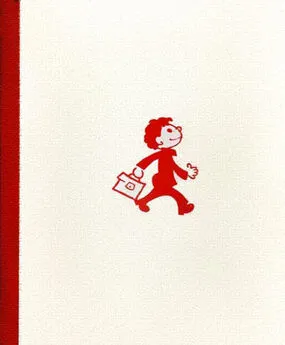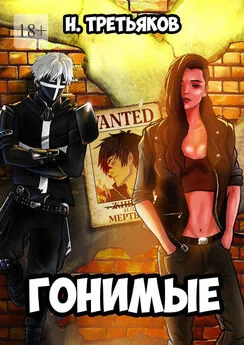Лев Анисов - Третьяков
- Название:Третьяков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02584-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Анисов - Третьяков краткое содержание
Книга Льва Анисова повествует о жизни и деятельности известного мецената и коллекционера Павла Михайловича Третьякова, идеей которого «с самых юных лет» было «наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях». Эта мысль не покидала его «никогда во всю жизнь».
Автор представляет нам своего героя глазами людей эпохи, в которую он жил. Перед нами предстают замечательные живописцы: И. H. Крамской, И. И. Шишкин, И. Е. Репин, целая плеяда не только русских художников, но и других представителей отечественной и мировой культуры. Автор стремится через их восприятие нарисовать портрет Третьякова, который получился живым, ярким и насыщенным.
Третьяков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ведомстве министра иностранных дел России большинство ключевых постов занимали «немцы», сторонники графа Нессельроде, о ком писали в 1848 году активные участники кёльнского «Демократического общества» К. Маркс и Ф. Энгельс: «Вся русская политика и дипломатия осуществляется, за немногими исключениями, руками немцев или русских немцев… Тут на первом месте граф Нессельроде…» [2] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 156.
В марте 1854 года Англия и Франция объявили войну России. Австрия и Пруссия поддержали их.
Формальным поводом для объявления войны англичанами и французами послужило введение русских войск на территорию Молдавии и Валахии, принадлежавших тогда турецкой империи. Государь Николай Павлович в августе 1854 года вывел свои войска с чужих земель (военные действия начались летом того же года), лишив союзников повода для нападения на Россию. Но желание ослабить Россию было у ее противников велико.
Собираясь укрепить государственный аппарат неподкупными исполнителями своей воли, государь решается очистить его от засилья «немцев». Летом 1854 года он, отметая возражения Нессельроде, назначает послом в Вене князя А. М. Горчакова. На недоуменный возглас графа Нессельроде, противящегося этому назначению, Николай Павлович решительно заявит: «Я назначил его потому, что он русский».
Тем временем вражеские эскадры входят в Черное, Баренцево, Белое моря и в Финский залив. Под огнем англичан и французов оказались Севастополь, Керчь, Кронштадт…
В разгар военных событий, в феврале 1856 года, скончался государь Николай Павлович. У современников не было сомнений, что «его убили последние политические события и не столько война и ее неудачи, сколько озлобление и низость не только его врагов, но и тех, в ком он видел своих союзников и друзей». (Близкие к государю люди рассказывали, что незадолго до своей кончины он перевернул к стене портрет австрийского императора Франца Иосифа и написал под ним: «Du undankbard [3] Неблагодарный (нем.).
»)
В марте 1856 года Россия подписала унизительный мир в Париже.
Впрочем, мы забежали вперед. Но, прежде чем возвратиться к годам предшествующим, напомним об одном: в 1860 году настоятель церкви Николы в Толмачах отец Василий Нечаев совместно со священниками Ключаревым и Лебедевым начал издавать журнал «Душеполезное чтение», остро ощущая потребность в видах противодействия зловредным влияниям духа времени.
В 1851 году в Петербург на торжества, связанные с открытием движения по Николаевской железной дороге, прибыла с поздравлениями государю депутация именитого московского купечества. Воспользоваться новым средством передвижения она не захотела и, по привычке прежних лет, прибыла в столицу на лошадях. Узнав об этом, государь Николай Павлович приказал запереть купеческую делегацию в вагон и отправить обратно по железной дороге. В Первопрестольную купцы прибыли в полуобморочном от страха состоянии.
Не о том ли вспоминал Павел Михайлович Третьяков, направляясь в октябре 1852 года в Петербург вместе с любимым всей семьей Третьяковых старым кассиром Василием Васильевичем Протопоповым?
Появлялись и исчезали за окном заснеженные деревеньки, перелески. Постукивали на стыках рельсов колеса вагона. Раскачивался фонарь над головой. Нарушал беседу пассажиров резкий гудок паровоза.
Все-таки преславное это дело — оторваться от конторы, дома, опеки маменьки и нырнуть в неизвестное: совершить давно задуманную поездку в столицу.
Можно же позволить себе прекратить на время стучать костяшками счётов, отложить в сторону конторские книги.
«Милая, дорогая, бесценная маменька! После 22-часового вояжа наконец я в Петербурге! Наконец я там, где давно желал быть! Там, где могу отдохнуть от трудов и забот мирских, потому что я здесь свободен, свободен, как птица (только никак не поэтическая)… Ну да что об этом говорить, лучше сказать вкратце о моем путешествии.
От станции Московской до Петербургской — устроено все как сама дорога, так машины, вагоны, дорожные гостиницы и пр<���очее> в лучшем виде, и если бы не зябли мои ноженьки, то был бы совершенно доволен», — писал Павел Третьяков по прибытии в Петербург, 14 октября 1852 года.
Зимняя, морозная выдалась пора. Дул ледяной ветер, гнал поземку по земле. Приходилось идти боком, укрыв лицо воротником шубы.
Как завороженный, отогреваясь в номере гостиницы, смотрел он в окно на Невский. Мимо, в несколько рядов в каждую сторону, непрерывным потоком неслись экипажи. И холеные петербургские извозчики (не чета московским захудалым ванькам), и чиновничьи коляски, и придворные кареты с ливрейными лакеями в треуголках, и шикарные собственные выезды…
Молодой московский купец всецело предался наблюдениям и впечатлениям. А в Петербурге было отчего сойти с ума. Одни театры чего стоили.
«Театр! Что за театры здесь. Что за артистические таланты, музыка и пр<���очее>. Я видел Каратыгина, Мартынова, Самойлову (2-ю) и Орлову; кроме этих знаменитых артистов здесь превосходные актеры: Максимов, Григорьев, Самойлова (1-я), Читау, Сосницкая, Дюр и пр<���очие>…
Орлова! Ваша любимица Орлова очаровала меня! Она, кажется, усовершенствовалась еще более. Эта умная актриса победила петербургскую публику: те, которые не любили ее, смеялись над ней, — теперь все рукоплещут без изъятия.
О Самойловой уж и говорить нечего», — сообщал он маменьке на пятый день пребывания в Санкт-Петербурге.
Нет, недаром стремился он сюда. Не зря целый год готовился к поездке.
Сколько слыхивал он о Каратыгине, о любимце петербуржцев Александре Евстафьевиче Мартынове, с появлением которых остроумие, веселость, смех воцарялись на сцене.
Мартынов так привлекал публику, что его зачастую ставили на самые ничтожные роли для приманки и хорошего сбора. «Юмор его мимики, — свидетельствовал художник П. П. Соколов, — был настолько гениальным, что самая слабая пьеса, только благодаря его участию в ней, не сходила со сцены».
В одном из спектаклей он играл подвыпившего старенького чиновника, повторявшего всего шесть слов: «Ах, беда моя, много выпил я», — а театр покатывался со смеху.
Играл он и драматические роли, да так, что заставлял плакать зал, как заставлял всех смеяться в веселых комедиях.
Рассказывали, император Николай Павлович, несмотря на свою серьезность, нередко увлекался его игрою и очень часто специально ради него ездил в театр. Однажды, когда Мартынов очень распотешил государя, тот приказал позвать его и вышел в аванзалу. В ложе сидел министр двора князь П. М. Волконский.
— Ну, пожалуйста, Мартынов, — сказал государь, — нас никто здесь не видит, представь меня, говорят, ты это замечательно хорошо делаешь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: