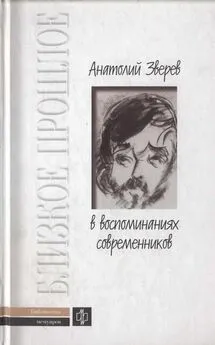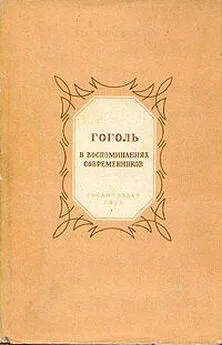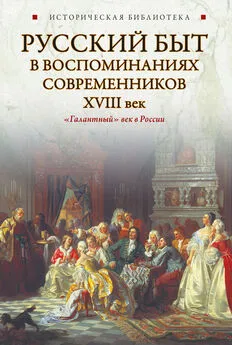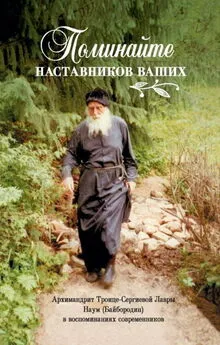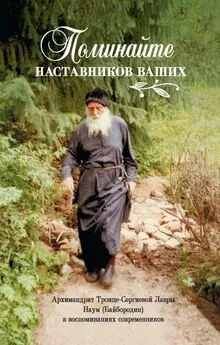Анатолий Зверев - Анатолий Зверев в воспоминаниях современников
- Название:Анатолий Зверев в воспоминаниях современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02868-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Зверев - Анатолий Зверев в воспоминаниях современников краткое содержание
Каким он был — знаменитый сейчас и непризнанный, гонимый при жизни художник Анатолий Зверев, который сумел соединить русский авангард с современным искусством и которого Пабло Пикассо назвал лучшим русским рисовальщиком? Как он жил и творил в масштабах космоса мирового искусства вневременного значения? Как этот необыкновенный человек умел создавать шедевры на простой бумаге, дешевыми акварельными красками, используя в качестве кисти и веник, и свеклу, и окурки, и зубную щетку? Обо всем этом расскажут на страницах книги современники художника — коллекционер Г. Костаки, композитор и дирижер И. Маркевич, искусствовед З. Попова-Плевако и др.
Книга иллюстрирована уникальными работами художника и редкими фотографиями.
Анатолий Зверев в воспоминаниях современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Я учился в это время (44-й год) в школе имени Пушкина… Здесь, в этой школе, я увидел Николая Васильевича Синицына, преподававшего черчение (науку хотя скучную, но довольно занятную и интересную для чертежников, иногда и художников). Здесь впервые я был удостоен звания академика — что присвоил мне Николай Васильевич… Мне очень нравился этот педагог, так как представлял весьма аккуратного в „своей кройке“ и поведении: помню хорошо накрахмаленный белый воротничок на фоне симпатичного, с некоторым форсом улыбки, лица, на фоне очень хорошо выглаженного, тёмного, как гравюра, костюма, — всё это создавало очень приятное впечатление, и всякое появление Николая Васильевича для меня было выручкой. Я очень люблю аккуратных и строгих к одежде людей, потому что я сам никогда не следил за собой. Ученики и другие мои сверстники также относились с большим уважением к внимательному (по своей природе) человеку, с которым, однако ж, можно было и „весело“, что называется, жить. Например, мы впоследствии, занимаясь на дому, чувствовали себя весьма уютно и „романтично“: мне было очень и очень приятно пребывать в доме этого гравёра-живописца, у которого было достаточно много одарённых учеников».
Я листаю конторскую книгу, исписанную от руки чёрными чернилами печатными буквами. Значит, это вторая автобиография. Может быть, существуют ещё варианты? Писалось ли это для себя, с желанием разобраться в себе, или это был тоже род спектакля, создание ещё одного мифа?..
«…Я хворал, болел, плакал, меня так обижали, обижала мать, сестра — и пугало всё: и неожиданный поворот стула — трах-тар-рарах — и от двери чёрная ручка, как дьявол или нечистый дух, смотрела на меня. Я это чувствовал всеми фибрами души пугливой своей, меня пугал шелест листвы, и чёрные тени, устроенные на окнах стекла, странно и страшно двигались, как „маги“ — и не хватит на свете бумаги, чтоб описать столь ужасные видения, навевающие не очень хорошие сновидения (после чего снятся кошмары и видимости, довольно неприятные по своим формам и расцветкам)… Пугало также недоброе товарищество на дворе или улице. Среди мальчиков и девочек я вечно находил несправедливость их бытия (какого бы они круга ни были): обязательно то там, то сям было „неравенство“: кто-то обязательно был среди всех или очень красивый, или сильный. Мне, как человеку слабому от рождения физически (и расстроенному психически), хотелось быть настороже, я предпочитал не дружить. Дети играли, веселились, но их веселье мне всегда казалось подозрительным; я не мог разделить их чувства и никогда с ними не водился, а просыпал у себя (летом) возле окна мушиного за клеёнкой, за столом, пригретый некоторым лучом солнца. И мне было приятно грезить и спать, и я видел во сне белые батоны с изюмом — для меня в детстве изюм представлялся некоей фантазией, каким-то „чудом-юдом“, всегда он мне нравился. Когда мать приносила с работы эти булки, несколько „оттенённые“ запахом кожи или лекарства „салицилового“ завода, — оттенкоацетона, что мне тогда нравилось почему-то…
А под окном была помойка. И я дышал этой пылью и помойным смрадом, что жужжала казаками-мухами. На помойке водилось весьма большое количество помойных и грязных крыс, которые, перекочевав, „эмигрируя“ в нашу комнату, очищались до неузнаваемости, приобретали „божеский“ и „холёный“ вид и чистенькие, с противными хвостиками, прогуливались по столам комнаты и кухни, где по ночам, утром и днём кружка „ухнет“ то на кухне, то прямо дома близ ведра от крысиного бедра; пьют (как черти) воду, сталкивая фанеру (круглую), коей страховалась вода…»
— Всё это подлинно, — говорит Николай Васильевич. — В районе Сокольников строились дачи, а рядом с заводом улицы, застроенные деревянными домами, где селились рабочие, — настоящие трущобы. Мимо дома Зверевых была моя дорога в школу. Я помню и помойку, и мальчика в короткой рубашонке, который стоял на подоконнике и давил мух. Чуть подальше от дома была водокачка. Туда приводили лошадей, на которых развозили воду. Толя всю жизнь любил рисовать лошадей…
ЮРИЙ НОСОВ
Художник и коллекционеры
Об Анатолии Звереве я услышал впервые от своих друзей, художников Адольфа Демко и Виктора Стрижкова, в середине 60-х годов. Уже тогда они называли его гением.
Мои друзья в то время заканчивали художественные вузы, а я, хотя и мечтал в детстве стать художником, поступил в институт, весьма далёкий от искусства. Однако тяга к искусству не исчезла, а вылилась, в конце концов, в стремление посещать выставки, общаться с художниками, а затем и приобретать их работы.
Познакомился я со Зверевым в начале семидесятых. В последние десять лет жизни Толи мы виделись довольно часто. Однако я не могу считать себя его другом или даже приятелем, скорее — его постоянным заказчиком и покупателем, так как наши встречи, как правило, заканчивались тем, что он рисовал и оставлял мне свои работы за весьма символическую плату.
Поскольку у Толи не было своей мастерской, то знакомые, готовые покупать то, что он создавал у них дома, были ему необходимы. Трудно сказать, сколько их было — десять, двадцать, пятьдесят? — и какова была степень их дружеских с ним отношений. Но, так или иначе, на определённое время они предоставляли ему дом, краски, кисти, бумагу или холст, еду и выпивку, — и оплату, хотя и скромную, но достаточную, чтобы прожить. Это позволяло ему творить свободно и абсолютно независимо от государственных творческих организаций и закупочных комиссий.
И у других художников первой волны неоавангарда 60-х годов жизнь складывалась нелегко. Но судьба Толи Зверева была, как мне кажется, наиболее тяжёлой. Только он был законченным бродягой, у которого никогда не было не только мастерской, но, по сути, и дома, постоянного пристанища. Даже в начале 80-х годов, когда большинство его соратников уже приобрели респектабельность, семьи, мастерские и даже автомобили, а некоторые прекрасно устроились за рубежом, Толя продолжал скитаться — его неприкаянность даже усилилась. И в этом, как мне кажется, была его своеобразная философия, выражавшаяся в пренебрежении богатством и комфортом, то есть свобода не только в творчестве, но и абсолютная свобода от материальных ценностей, всякой «движимости» и «недвижимости».
Художник Дмитрий Краснопевцев рассказывал мне, как однажды, ещё в 60-е годы, Толя принёс ему пачку своих работ и попросил предложить их покупателям, но только после того, как тот покажет свои работы. Объяснил он это тем, что из-за отсутствия мастерской ему негде встречаться с коллекционерами. Краснопевцев тут же согласился предложить Толины работы, и даже прежде своих, но попросил написать на каждой работе её цену. Толя взял пачку, перевернул работы изображением вниз и стал писать на обороте одного листа: 15 копеек, другого — 70 рублей, третьего — 20 копеек, четвертого — 50 рублей и т. д. Толя, конечно, валял дурака. Однако я вижу в этом акте большой смысл, так как действительно невозможно деньгами оценить произведение искусства — так же, как солнечный луч, улыбку, дружбу или любовь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: