Галина Леонтьева - Карл Брюллов
- Название:Карл Брюллов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1976
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Леонтьева - Карл Брюллов краткое содержание
Жизнь замечательного русского художника первой половины XIX века К. П. Брюллова была безраздельно отдана искусству. «Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», — говорил он о себе. Знаменитой картиной «Последний день Помпеи» он изменил укоренившиеся представления о задачах исторической живописи, в числе первых нарушил привычные каноны классицистического искусства. Своей портретной живописью он прокладывал пути реализма. Книга рассказывает о творчестве мастера, о его жизни, богатой событиями и встречами — дружба связывала художника с Пушкиным и Глинкой, Гоголем и Кукольником.
Карл Брюллов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В результате тех поисков и мучений он добился некоторых результатов. Композиция картины немногословна и выразительна, линейные ритмы гармоничны и певучи. А главное — это заметили и современники — библейской сцене сообщены «особенное движение, жизнь». И все же по сравнению с «Нарциссом» картина строго академична, в ней тщательно соблюдены все каноны, она почти начисто лишена отступлений от дозволенного. Может быть, это-то и вызывало смутное недовольство молодого художника… Пройдет еще немало лет, не раз опустеет и снова наполнится запасом красок этюдник, сколько бумаги, сколько метров холста будет изведено, прежде чем он добьется того, о чем неясно сейчас мечтает: найти способы выражения в живописи неуловимых движений человеческого сердца, рассказать языком линий и красок, чем живут, к чему стремятся люди, окружающие его, — его современники.
Всего две первые золотые медали пришлось на выпуск 1821 года. Обладателем одной из них стал Карл Брюллов. И вот наступил знаменательный день. «При игрании на трубах и литаврах» раздаются награды и аттестаты. Карлу вручается аттестат 1-й степени «со шпагою». По академическому обыкновению все награды, полученные за двенадцать лет обучения, полагалось вручать на выпускном акте. Сияющий, раскрасневшийся от радостного возбуждения, Карл вынес из конференц-зала целую пригоршню медалей разного достоинства… Помимо аттестата и наград каждому ученику выдавались, уже в другой, менее торжественный день, пара платья, две пары сапог, три пары нижнего и постельного белья, все принадлежности для рисования и писания маслом, а ваятелям инструменты — «на первое время».
Итак, пройден начальный этап пути. Он многому научился, этот красивый юноша со светлой головой, незаурядным талантом и независимым нравом. По совету профессора Егорова Брюллову, Ефимову и Фомину предложили остаться в Академии на пенсионерский срок — для усовершенствования. Это было очень соблазнительно — пенсионеры имели при Академии отдельную комнату, пищу наравне со всеми, но в общую столовую могли и не ходить. Им полагалась шинель, 75 рублей на новый мундир — и свобода, даже при Оленине куда большая, чем у академистов. Однако Брюллов поставил непременным условием, чтобы в наставники им был определен профессор Угрюмов, а не туповатый инспектор Ермолаев. Поскольку в этой просьбе ему было отказано по воле Оленина, Брюллов, пригласив ближайших друзей на Крестовский остров, устроил там прощальное пиршество на открытом воздухе. В знак великой благодарности учителям, он провозгласил тост за их здоровье, а Оленина предложил громогласно предать анафеме. Что и было принято с восторгом — президента не любили.
Этот поступок Карла — не простая мальчишеская выходка. Независимость нрава он проявлял и раньше. Теперь же демонстративным отказом от опеки Академии Карл как бы определил свой путь на много лет вперед. Еще мальчиком Брюллов таил в себе свой, замкнутый мир, собственный мир представлений и убеждений. До времени он проявлялся лишь в невинных причудах. В конце концов многим людям свойственно такое тихое противление общепринятому или мелкие взрывы недовольства. Но этот поступок уже давал понять — его протест осмыслен; время докажет, что Брюллов обладал достаточной нравственной силой, чтобы защитить свой внутренний мир, выбрать свою, отличную от проторенной дорогу, и пройти по ней свой недолгий век…
Что же делать теперь? Вернуться в дом к отцу, снова под опеку? Искать мелких заказов, уроков в знатных домах? Нет, прежде всего он хочет независимости, уединения, возможности собраться с мыслями. Вместе с братом Александром он поселяется во временной деревянной мастерской при стройке Исаакиевского собора. Александра Монферран взял во временные помощники — в 1819 году состоялась закладка нового собора на месте разобранного старого. Сорок лет суждено простоять этой стройке, загороженной лесами, окруженной деревянными бараками и складами. Только к приезду Карла из-за границы здание будет наконец возведено до карниза. Ему еще предстоит новая встреча с капризным Монферраном, бесконечные тяготы работы с ним по росписи этого гиганта.
Здесь прожили братья вплоть до 1823 года. Без удобств, в спартанской обстановке, на сухомятке в те дни, когда мать, занятая хозяйством, малышами братьями, не могла к ним вырваться, неся в корзинке заботливо собранный, еще теплый домашний обед. Александр весь день на стройке, Карл предоставлен себе. Эти два года — пора раздумий, пробы сил, остановка в пути перед новым этапом. Не работая, он не умел и размышлять. Большие композиции его сейчас не волнуют, хотя он делает и их. Портрет — вот что влечет его более всего. Как раз в это время он и пишет портрет четы Рамазановых, П. Кикина и его жены, еще раз повторяет портрет их маленькой дочери, пробует, как Соколов, писать акварелью — то изображает свою старенькую бабушку, то А. Дмитриева-Мамонова. Он почти не рисует. Его влечет живопись.
Обратившись к портрету, да еще не заказному, а с милых сердцу людей, он ищет образец, пример, если угодно — подсказку, несколько теряясь перед чистой плоскостью холста, на которую надо перенести живого, теплого, смеющегося, разговаривающего, думающего человека. Ища ключей к таинству портрета, он еще в Академии несколько раз копировал, изучая приемы, портрет старика из Строгановской галереи — прекрасный образец испанской школы, в те времена ошибочно приписывавшийся Веласкесу. Оглядываясь назад, он видел, как блестяща русская портретная школа. Но слепо повторять приемы Левицкого, Боровиковского, Рокотова не хотелось. В Академии портретный жанр считался низким родом, им занимались мало. Да и среди портретистов в столице сейчас нет ярких имен.
В поисках примера для подражания Карл оглядывается вокруг — и никого не находит. Никого, кроме единственного, но зато какого блестящего мастера. Его тоже сейчас нет в России, он в Италии. Но его работы молодой художник знал. Что же удивительного, что на первых порах он поддается влиянию старшего товарища, создавшего такие блестящие образцы психологического портрета, как портрет Швальбе, яркие, приподнятые образы героев Отечественной войны — Ореста Кипренского!
В брюлловском портрете Рамазанова ясно слышно, как неокрепший еще голос молодого художника перекликается, а то и звучит в унисон с уверенными, яркими интонациями зрелого мастера — Кипренского. Рамазанов в этом портрете и приближен к нам — полуфигура придвинута к самому краю холста — и вместе с тем замкнут, затаен: голова его отстранилась в глубь полотна, полуприспущенные веки словно скрывают от нашего взора тайные движения его души. Как и герои многих портретов Кипренского, он представлен человеком сильного характера, сложной духовной организации. Черты русского интеллигента 1820-х годов выражены ясно и отчетливо. Но юному Брюллову еще не удается так глубоко проникнуть в человеческий характер, как это умел делать умудренный жизнью Кипренский. Нам не открывается с достаточной полнотой мир души Рамазанова, потому что он еще полускрыт и от взгляда самого автора.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

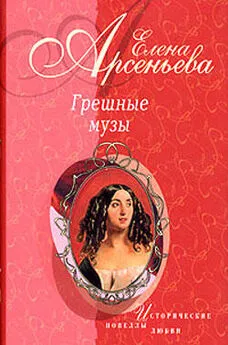


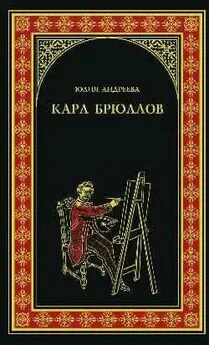

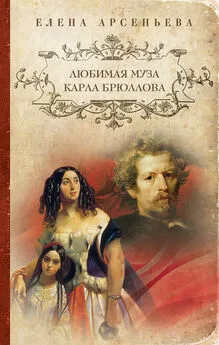

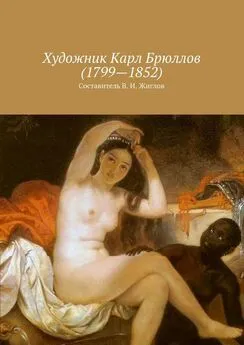
![Юлия Алейникова - Прощальный подарок Карла Брюллова [litres]](/books/1070572/yuliya-alejnikova-prochalnyj-podarok-karla-bryullova.webp)
![Галина Леонтьева - Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров [Книга для учащихся старших классов]](/books/1089931/galina-leonteva-zemleprohodec-erofej-pavlovich-hab.webp)