Галина Леонтьева - Карл Брюллов
- Название:Карл Брюллов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1976
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Леонтьева - Карл Брюллов краткое содержание
Жизнь замечательного русского художника первой половины XIX века К. П. Брюллова была безраздельно отдана искусству. «Когда я не сочиняю и не рисую, я не живу», — говорил он о себе. Знаменитой картиной «Последний день Помпеи» он изменил укоренившиеся представления о задачах исторической живописи, в числе первых нарушил привычные каноны классицистического искусства. Своей портретной живописью он прокладывал пути реализма. Книга рассказывает о творчестве мастера, о его жизни, богатой событиями и встречами — дружба связывала художника с Пушкиным и Глинкой, Гоголем и Кукольником.
Карл Брюллов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даже такого скептического в отношении к Брюллову критика, как А. Бенуа, захватила торжествующая красота, молодая сила, пылкость и своенравие брюлловской героини. Он пишет, что в портретах Самойловой, хоть, по его мнению, и «безвкусных», «Брюллову удалось, вероятно, благодаря особенному его отношению к изображаемому лицу, выразить столько огня и страсти, что, при взгляде на них, сразу становится ясной сатанинская прелесть его модели».
В этом полотне, как и в написанной чуть раньше, в 1832 году, по заказу Самойловой «Всаднице» (в ней изображены Джованина и Амацилия Пачини), ярчайшим образом отразились особенности брюлловского портрета-картины. Тут и там введены дополнительные действующие лица. Тут и там в общем действии участвуют животные — лошадь, собаки. Как и другие работы этого жанра, картина пронизана несложным сюжетным действием, но зато бурным, стремительным движением. Как и в других портретах-картинах, место действия дано очень точно, конкретно — с натуры. Еще один принцип, выдержанный во всех работах этого плана, — зрелищность. Достигается это и декоративностью, и блестящей, виртуозной живописностью. Все детали, аксессуары не просто изображены, они тоже, как и люди, торжественно воспеты. Не один человек, не изолированный, а, как говорил Брюллов, «человек в связи с целым миром» — вот основа портрета-картины в представлении художника. Патетичность восприятия мира как нельзя более полно раскрывается в колорите. Карл откровенно пристрастен к ярким тонам — белым, синим, красным. Алый цвет особенно влечет его. Это выразилось еще в одном из первых портретов-картин — отличном портрете виолончелиста Матвея Виельгорского. В портрете Самойловой пылающей алостью пронизан весь холст: тяжелый бархатный занавес — алый, шаль в руке Юлии — алая, оторочка одежды арапчонка — алая, на ковре сверкают алые цветы, штофные обои и обивка дивана тоже алые. Необычайного богатства градаций одного цвета достигает здесь Брюллов, он словно задал себе задачу создать торжественную симфонию всех модуляций красного цвета. Среди этого горячего окружения как нечто воздушное и неземное летит Самойлова в небесно-голубом платье из блестящего ломкого шелка, схожего с прозрачною голубизною небес и пейзажной дали, раскрывающейся в глубине анфилады комнат. При всей яркости красок Карл грешит перед цветовой правдой натуры лишь в том, что как бы очищает, проясняет природные тона, по выражению Гоголя, передает «ту внутреннюю музыку, которой исполнены живые предметы натуры».
Уже «Всадница» была встречена итальянской публикой и критикой восторженно. А следующему портрету достались такие похвалы, каких Брюллов, привыкший к поощрению, еще не слыхал. Один из критиков писал: «Тело вообще доведено до той оконченности, которую едва может превзойти воображение. Лицо девочки до того деликатно и живо, что, может быть, не отыщет себе равного ни в одной из картин, выставленных в этом году. Сверх того, мы не питаем надежды, что на каждой новой выставке увидим две руки, так же хорошо нарисованные, доведенные до такой круглоты и так же мягко написанные, как те, которые связывают между собой эту самую девочку и даму». Еще один критик поставил этот портрет в один ряд с произведениями Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта. И это не просто выражение восторженности, к тому были определенные основания. Чем больше Карл занимается портретом, тем реже вспоминает великого Рафаэля, тем пристальнее вглядывается в работы Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса, Веласкеса. Брюллов не был одинок в этих своих симпатиях. Рембрандта чтили романтики всех народов, и поэты, и живописцы.
«Быть может, когда-нибудь сделают открытие, что Рембрандт более великий живописец, нежели Рафаэль. Эти кощунственные слова способны заставить подняться дыбом волосы на головах всех господ академической школы… но с годами я все более убеждаюсь, что правда — это самое прекрасное и редкое на свете», — говорил Делакруа.
Увлекает Брюллова и Рубенс. Отношение к его творчеству классицистической школы точно выразил Энгр: «Рубенс и Ван Дейк могут ласкать глаз, но они его обманывают: они колористы плохой школы — школы лжи». Брюллов судит иначе: «Рубенс — молодец, который не ищет нравиться и не силится обмануть правдоподобием… В его картинах роскошный пир для очей… У Рубенса пируй, а с ним не тягайся и ему не подражай». Интересно, что Делакруа отмечает, по сути, те же свойства Рубенса: «Во всем сверхизобилен… его картины напоминают сборища людей, где все говорят сразу».
Рубенсом Брюллов любуется, восхищается свободной живописностью, учится, как избежать мелочного правдоподобия. Ван Дейк ему ближе. В его строгих парадных портретах есть чему поучиться. Брюллов изучает, как мастер пользуется мазком, одновременно и лепящим форму, и дающим богатую цветовую характеристику предмета, как цветовое богатство сочетается у него со строгой сдержанностью. Его покоряет безукоризненность рисунка, верность колорита, близкого натуре и потому бесконечно разнообразного: «Живопись его не расцвечена пестрыми, нелепыми пятнами; положение фигур естественно, освещение незатейливое, наконец, круглота, ловкость письма и много силы», — говорит он.
Но истинным кумиром на протяжении всей жизни остается для Брюллова Веласкес. Он считал его «образцовым живописцем» и «из портретистов любил больше всех». Однажды он, рассказывая друзьям о посещении одной галереи, признался, что, увидев портрет Веласкеса, был настолько поражен им, что «у него от зависти задрожали ноги». В другой раз, в Турине, он увидел портрет Филиппа IV кисти Веласкеса, поставил мысленно на нем первый номер и «после нее ничего больше смотреть не хотел». Его поражало, как великий испанец владел кистью: «Она в одно и то же время выражала форму, колер, рельеф и перспективу плана, ею наносимого». Брюллов учится у него умению сохранить свежесть и сочность живописи, которые неминуемо исчезают «при медленном, робком, копотливом исполнении».
Художник настолько глубоко изучает портретистов прошлого, что иногда для упражнения задает себе задачу написать портрет в духе того или иного из них. «Но когда он серьезно принимался за дело, — свидетельствует Гагарин, — то обыкновенно говорил: „Сделаю Брюллова“». В своих портретах он никогда не подражает никому из любимых мастеров, но следы их серьезного изучения ощутимы в ряде его работ, особенно в парадных портретах.
Среди больших портретов-картин Брюллова, естественно, преобладали заказные. По заказу писал он приехавшую в Рим великую княгиню Елену Павловну и ряд повторений ее портрета. По заказу писал портрет О. И. Давыдовой. По заказу работает и над портретом потомка уральских горнозаводчиков Анатолия Николаевича Демидова. Этот портрет, так и не дописанный, до нас не дошел. Известен он по восторженным описаниям, эскизу и множеству подготовительных рисунков. Они-то и помогают понять сам процесс работы Брюллова над подобными портретами. Судя по рисункам, самую большую долю работы составляли поиски композиции. В многочисленных эскизах, подчас совсем маленьких, — их по нескольку умещается на одном листе — художник ищет расположения основных масс, выясняет для себя взаимосвязь фигур. Сразу остановившись на мотиве конного портрета — вздыбленная лошадь, внезапно осадивший ее всадник, — он пробует скомпоновать сцену то с двумя егерями, то с одним, без конца меняет их местами, намечает извив дороги, ищет расположение, количество и массу зелени. На ряде рисунков с общим абрисом композиции соседствуют тщательно проработанные детали: то задняя нога лошади, то часть туловища собаки, то застежки боярского кафтана Демидова: от суммы самого общего и самого детального развивает он свой замысел, ища затем путей к естественности равновесия главного и второстепенного. Интересно, что этюдов портретируемого Брюллов почти никогда не делает. Зоркий, натренированный глаз, феноменальная память, наконец, чутье психолога позволяют ему «выучить» человека наизусть, изучить в процессе общения настолько, чтобы затем непосредственно писать его с натуры в холст. «Если ты не умеешь обращаться со своими фигурами, ты подобен оратору, который не умеет пользоваться своими словами», — сказал когда-то великий Леонардо. Пользуясь его фразеологией, можно сказать, что Брюллов говорил на языке живописи свободно, без запинок, он «умел обращаться со своими фигурами», умел придать им естественное движение, не заставляя застывать в позе «бегущего» или «скачущего» на лошади, что и стяжало ему широкую славу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

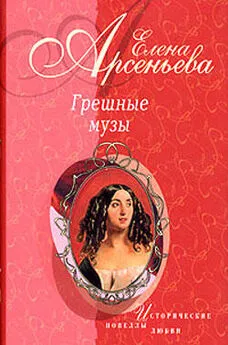


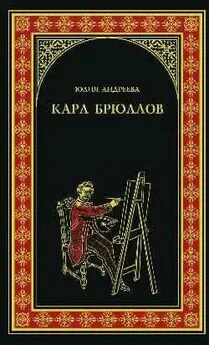

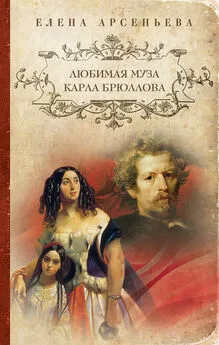

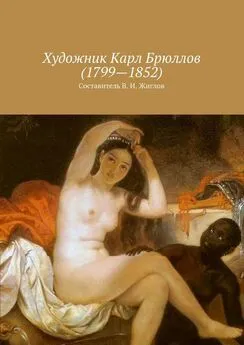
![Юлия Алейникова - Прощальный подарок Карла Брюллова [litres]](/books/1070572/yuliya-alejnikova-prochalnyj-podarok-karla-bryullova.webp)
![Галина Леонтьева - Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров [Книга для учащихся старших классов]](/books/1089931/galina-leonteva-zemleprohodec-erofej-pavlovich-hab.webp)