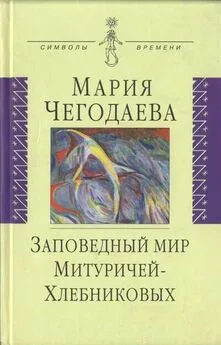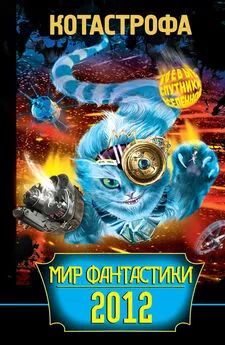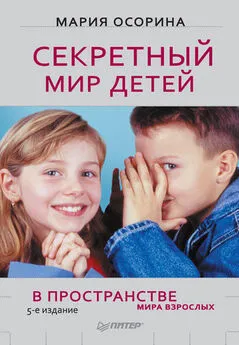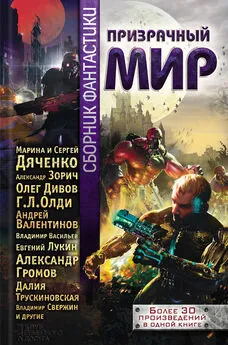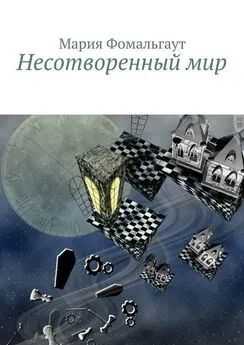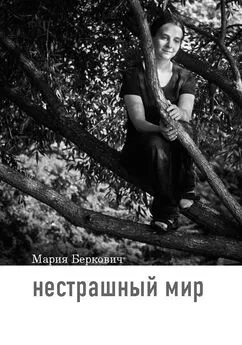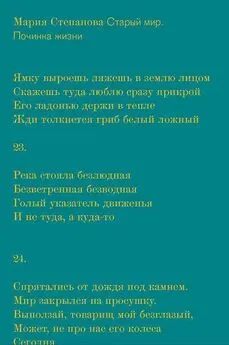Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых
- Название:Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0272-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых краткое содержание
Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).
На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.
Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рисунок Мая-солдата, 1943.
Дремлющий юноша с полузакрытыми глазами и чуть приоткрытым ртом, с растрепанной копной торчащих во все стороны волос. Градации темных и светлых пятен, живописные штрихи, быстрые, разбегающиеся, сильными нажимами зачерняющие фон, мелкими светлыми «завихрениями» заполняющие гимнастерку, намечая объем.
Май: «Разумеется, были у Митурича и сторонники, друзья. Но война разметала кого на фронт, кого — в эвакуацию. Прервались ленинградские связи» [374] Указ. соч.
. Уехал в эвакуацию, в Пермь, Петр Иванович Львов.
«Немногим, кто оставался в Москве, — тоже приходилось туговато, но они поддерживали Петра Васильевича как могли. А более всех Павел Захаров, который помог Петру Васильевичу пережить суровые времена. Тянулась к нему и молодежь, и каждый, кто хоть раз побывал на девятом этаже знаменитого дома Вхутемаса, надолго запоминал эту встречу» [375] Указ. соч.
.
И все же в скупых отрывочных свидетельствах-воспоминаниях, письмах тех лет прежде всего встает острое чувство одиночества, владевшее Петром Митуричем с отъездом в эвакуацию многих друзей, с уходом в армию сына. Мы видим его — забившегося в тесноту фанерного «шалаша», сооруженного посредине большой промозглой комнаты, кое-как обогреваемого плиткой, в длинном до пят пальто Мая… Единственное спасение, отключение от горькой одинокой реальности — воспоминания о Вере, о Велимире Хлебникове, те картины прошлого, те видения, что впервые предстали нам спустя 45 лет со страниц книги «П. Митурич. Записки сурового реалиста эпохи авангарда», поразив своей острой достоверностью.
Видимо, думал он и о возможности смерти, тревожился за судьбу драгоценных реликвий. Составил завещание (конечно, даже не подумав заверить его юридически):
«Завещание.
Вот мое имущество, которое состоит:
Из рукописей Велимира Хлебникова и его рисунков;
Живописи, рисунков и рукописей Веры Хлебниковой, моей жены;
Живописи, рисунков, рукописей, патентов и моделей моего творчеств;
Пожиток нашего обихода и иконографического материала;
Писем и рукописей Екатерины Николаевны Хлебниковой и Владимира Алексеевича Хлебниковых.
Взять в свое распоряжение сыну моему возлюбленному Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову с тем, чтобы он взял на себя труды донести до света наши труды, умно, с наименьшим повреждением собрания, присоединив к ним также и свои труды, начиная с 4-летнего возраста.
П. Митурич. 1943» [376] Митурич П. В. Вера// В кн.: П. Митурич. Записки сурового реалиста… С. 99.
.
Позже, в 1953 году он сделал добавление к этому завещанию, опять-таки не посчитав нужным его заверить:
«Главное собрание рукописей (Велимира Хлебникова) находится у Николая Леонидовича Степанова.
Много живописи моей и Веры Хлебниковой дано на сохранение Павлу Григорьевичу Захарову.
Авторские суммы от издания и переиздания наших трудов также должны принадлежать единственному нашему наследнику их Маю Митуричу-Хлебникову.
П. Митурич. 1943.
Февраль 1953» [377] Указ. соч. С. 99.
.
Май: «На одинцовской базе мы заготавливали увеличенные, на трехметровых, иногда и больше холстах, плакаты, портреты маршалов, вождей. В назначенный день за ними приходили обычно два грузовика — в одном стояли бочки с запасом горючего, туда грузили и холсты, всякие вспомогательные материалы. В другой, тоже под брезентовым тентом, усаживались мы и двигались в путь. Это означало, что в ближайшие дни будет одержана еще одна победа, будет освобожден крупный город. Кроме художников выезжали и плотники, тоже солдаты. И среди дымящихся еще руин плотники по чертежам наших оформителей сколачивали конструкции, мы, художники, взяв малярные кисти, эти конструкции красили и устанавливали плакаты, портреты маршалов, вождей, великих русских полководцев прошлого, ленты с призывами и лозунгами, флаги и флажки. И люди, жители, выбирались из подвалов, собирались на площади с надеждой на то, что война покинула их края. Когда завершилась сталинградская битва, бригады нашей еще не было. Среди наиболее значительных командировок были — Новгородская, Вильнюс-Каунас, Курск-Орел-Обоянь-Белгород-Курская дуга. Дважды выезжали в Киев — по взятии его и когда восстановлен, построен был мост через Днепр. Всякое случалось в этих командировках. Но из уважения к памяти тех, кто вынес тяготы войны на передовой, я не чувствую себя вправе много рассуждать о своих впечатлениях.
Да и каким еще зеленым, глупым мальчишкой был я тогда! В мечтах моих снова и снова возвращался я в Крым, в Судак. И виделся мне грот под Алчаком, где в бирюзовой глубине гуляли лобаны — крупная разновидность кефали. Они лениво кружились, едва не задевая мою наживку. Часами просиживая с удочкой над гротом, я так и не был удостоен внимания лобанов.
И вот, не помню уже где, я подобрал валявшуюся гранату-„лимонку“ и сунул ее в свой вещмешок. А оказавшись на базе в Одинцове и получив увольнительную, принес эту гранату домой и, не сказав ничего отцу, спрятал ее где-то, кажется, между книг. Зачем? Чтобы, когда кончится война, поехать в Судак и гранатой заглушить лобана! И так, может быть, около года граната лежала у нас дома. А если бы обыск… Более того, понятия не имея как с гранатой обращаться, для „безопасности“ я развинтил ее, вынул детонатор, спрятал гранату и детонатор в разных местах. Наверное, лишь год спустя, внезапно осознав всю нелепость затеи, изъял гранату из тайника и, вернувшись в часть, утопил ее в деревенском нужнике, для безопасности раздельно с детонатором, но вместе с мечтой о лобанах. Была у меня и еще одна детская тоже мечта — о ручных белочках…
Разумеется, в командировках наших попадали мы и под бомбежки и под обстрелы. Но где тогда не бомбили — разве что в глубоком тылу…
Чтобы попасть в Киев, машины наши двигались через Днепр по понтонной переправе. Ночью, без огней. Кругом черная бескрайняя вода Днепра. На переправе пробка — где-то впереди машины заглохли. И тут в небе повисли осветительные ракеты. Совсем близко вздымая столбы воды, начали сыпаться бомбы. Но в нитку переправы им попасть тогда не удалось.
Появившийся начальник приказал столкнуть заглохшие машины в воду, и колонны медленно двинулись к темному берегу.
Бабушка Александра Карловна Митурич умерла в начале войны. О тете Юлии не было никаких известий. И испросив увольнительную, я отправился на поиски тети Юли. Адрес — Миллионная улица возле Печерского базара — я помнил. Нашел домишко, постучал, вошел. И увидел тетю Юлию. Остриженная наголо, с начавшим отрастать седым „ежиком“, она, как-то не очень удивившись моему появлению, стала рассказывать о пережитом. Недвижимая, в своем инвалидном кресле, она благодаря заботам подросших юных ее друзей смогла пережить годы оккупации. „Я напишу, я напишу книгу обо всем, что было“, — твердила она. Я принес ей какие-то консервы и косичку лука.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: