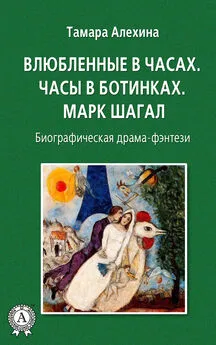Марк Шагал - Моя жизнь
- Название:Моя жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-7195-0029-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Шагал - Моя жизнь краткое содержание
Впервые на русском языке публикуется «Моя жизнь» — документально-поэтическая автобиография художника, которую он назвал «романом своей жизни». До этого книга неоднократно издавалась за рубежом на многих европейских языках, но, изначально написанная по-русски и посвященная в основном России, была неизвестна соотечественникам.
Для широкого круга читателей.
Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Будь я чуть понахальнее, я бы добился для себя хоть каких-нибудь льгот, как другие.
Но я заика. Вечно робею.
Вот и теперь мне нужна квартира в Москве.
С Витебском я распростился.
Нашел клетушку с черного хода. Там сыро. Сырые даже одеяла в постели. Сыростью дышит ребенок. Желтеют картины. По стенам сползают капли.
Да что я, в тюрьме, что ли?
И вот перед кроватью — штабель дров.
Я с трудом достал их.
«Дрова сухие», — заверил меня хитрый мужик.
Правда, некому распилить.
Затащить здоровенные поленья на пятый этаж невозможно, нельзя и оставить на улице — утащат.
Четверо случайно встреченных военных помогают поднять дрова к нам в комнату и сложить их, как в сарае.
А ночью мы словно очутились в лесу: оттепель, оттаяли и потекли елки.
Может, там, среди поленьев, прячутся волки и хвостатые лисицы?
Казалось, мы спим под открытым небом, все капает, тает.
Не хватало только облаков и луны.
И все-таки мы спали и видели сны.
Утром жена сказала: «Взгляни на малышку. Не занесло ее снегом? И ротик ей прикрой».
Денег не было. Да и к чему они — все равно купить нечего.
Я получал паек и шел домой с мешком за спиной, скользя по льду и ощущая себя жилистой костистой плотью с пучком белых крыльев.
Что делать? Говядины — полтуши. Муки — мешок. То-то мыши обрадуются!
Я люблю селедку, но селедка каждый день!
Люблю пшенную кашу. Но когда одна пшенка!
Для малышки надо было раздобыть хоть немного молока, масла.
Жена понесла на Сухаревку свои украшения. Но толкучку оцепила милиция, задержали и ее.
«Отпустите, Бога ради, — умоляла она. — У меня дома ребенок. Я только хотела обменять кольца на кусочек масла».
Я не жаловался. Меня все устраивало. Чем плохо?
Добрая душа пустила нас к себе. Мы все: жена, дочурка, няня и я — спим в одной комнате.
Затопили печь. С труб закапала влага в постель. В глазах слезы — от дыма и от радости. В углу ватной белизной искрится снег. Мирно посвистывает ветер, плеск пламени похож на звучные поцелуи.
Пусто и радостно.
Лицо морщится в улыбке, я жую черный советский хлеб, набиваю рот и душу.
Наш хозяин принимает по ночам двух девиц. Утешается с ними.
И это в советское время, когда кругом голод!
Ах ты, буржуй проклятый!
В конце концов я разгулялся на стенах и потолке одного из московских театров.
Там томится в полумраке моя роспись. Вы видели?
Глотайте слюнки, современники!
Худо-бедно, но мой дебют в театре набил вам животы.
Нескромно? К чертовой бабушке скромность!
Можете меня презирать!
Вот, — сказал Эфрос…

— Вот, — сказал Эфрос [42], вводя меня в темный зал, — стены в твоем распоряжении, делай, что хочешь.
Это был брошенный, разбитый дом — богатые хозяева уехали.
— Смотри, — продолжал Эфрос, — здесь — зрительные ряды, там — сцена.
А я, признаться, видел здесь — остатки кухни, там…
— Долой старый театр, провонявший чесноком и потом! Да здравствует…
И я приступил к работе.
Холсты были расстелены на полу. Рабочие и актеры ходили прямо по ним.
В залах и коридорах вовсю шел ремонт, опилки набивались в тюбики с красками, прилипали к эскизам. Шагу не сделаешь, чтобы не наступить на окурок или огрызок.
И тут же на полу лежал я сам.
Это было даже приятно. По еврейскому обычаю на землю кладут покойника. Родные усаживаются в изголовье и оплакивают его.
Вообще люблю лежать, уткнувшись в землю, шептать ей свои горести и мольбы.
Я вспомнил своего далекого предка, который расписывал синагогу в Могилеве.
И заплакал.
«Почему он не позвал меня на помощь сто лет назад? Пусть теперь хотя бы помолится, заступится за меня пред лицом Всевышнего.
Пролей в мое сердце, длиннобородый пращур, хоть каплю вечной истины».
Эфроим, театральный швейцар, приносил мне молоко и хлеб, чтобы я мог подкрепиться.
Молоко было ненастоящее, хлеб тоже. Молоко, как разведенный крахмал. Хлеб из овсяной муки, табачного цвета, с отрубями.
Может, таким и должно быть молоко революционной коровы? Или шельма Эфроим наливал в кружку воды, подмешивал какую-то гадость и подавал мне?
На вкус оно было, как белая кровь, или еще противнее.
Я ел, пил и вдохновлялся.
Как сейчас вижу этого швейцара, единственного представителя рабочего класса в нашем театре.
Носатый, тщедушный, трусливый, тупой и блохастый: блохи скакали с него на меня и обратно.
Стоит, бывало, надо мной и гогочет.
— Чего смеешься, дурень?
— Не знаю, куда глядеть: на вас или на ваши художества. Потеха, да и только!
Где ты, Эфроим? О, да ты был не просто швейцаром, случалось, тебе доверяли проверять билеты на входе.
Я часто думал: выпустить бы его на сцену.
А что? Взяли же жену второго швейцара.
Фигура этой женщины напоминала обледеневшую жердь.
На репетициях она вопила, как жеребая кобыла.
Врагу своему не пожелаю увидеть ее груди.
Страх Божий!
Кабинет директора Грановского. Театр еще не открыт, работы у него мало.
Узкая комната. Директор полеживает на диване. Под диваном — стружки. Он вообще лежебока.
— Как поживаете, Алексей Михайлович?
Не меняя позы, он или улыбается, или ворчит и бранится. Мне, да и прочим посетителям, как мужеского, так и женского пола, не раз доводилось слышать от него крепкие словечки.
Не знаю, улыбается ли Грановский [43]и поныне.
Но тогда его улыбка поддерживала мои силы так же, как Эфроимово молоко.
Спросить, как он ко мне относится, я не решался.
Так до самого конца и не выяснил.
Поработать для театра я мечтал давно.
Еще в 1911 году Тугендхольд писал, что предметы на моих картинах — живые.
По его словам, я мог бы «писать психологичные декорации».
Это запало мне в голову.
Он же рекомендовал меня Таирову в качестве художника для «Виндзорских насмешниц».
Мы встретились и разошлись полюбовно.
Так что, когда незадолго до отъезда из Витебска, намаявшись там с художниками и художествами, друзьями и недругами, я получил приглашение Грановского и Эфроса принять участие в создании нового еврейского театра, то страшно обрадовался.
Идея позвать меня принадлежала Эфросу.
Эфрос? Длиннющие ноги. Не то чтобы очень шумный, но и не тихоня. Непоседа. Носится вверх-вниз, взад-вперед. Сверкает очками, топорщит бороду.
Кажется, он сразу везде.
Он мой друг, настоящий, заслуженно любимый.
О Грановском же я впервые услышал в Петрограде, во время войны.
Он был учеником Рейнхардта [44], привозившего в Россию своего «Эдипа». Грановский поставил несколько массовых спектаклей в том же духе и имел определенный успех.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
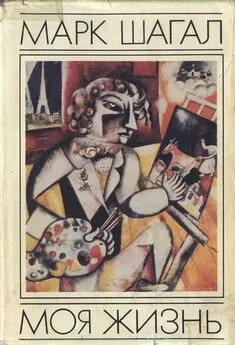

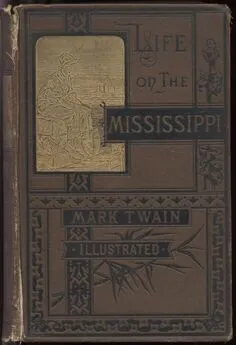
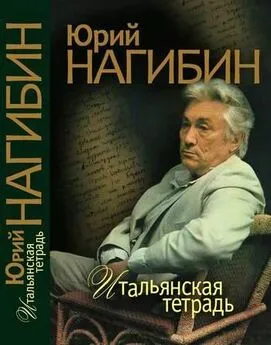
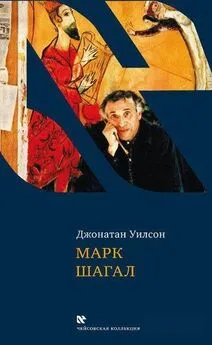


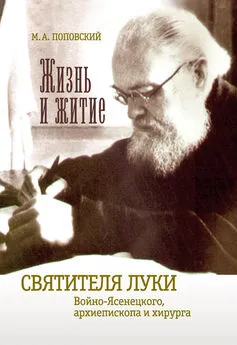
![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)