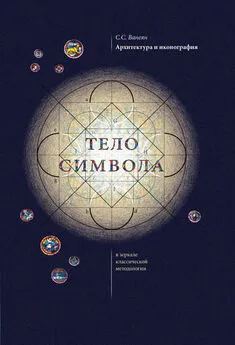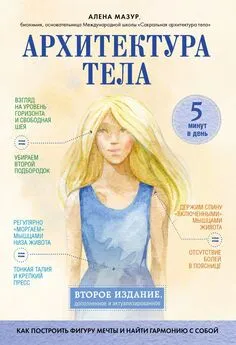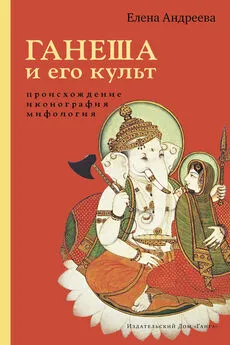С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Название:Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-331-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии краткое содержание
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст. Синдинг-Ларсена (семантика литургического пространства). Признаются несомненные ограничения иконографии, заставляющие продолжать поиски иных приемов описания и толкования архитектурно-литургического целого – храмового тела, понимаемого и как «тело символа», как форма и средство теофании. В обширных Приложениях представлен в том числе и обзор отечественного опыта архитектурной иконографии.
Книга предназначена широкому кругу читателей, должна быть полезна историкам искусства и может представлять интерес для богословов, философов, культурологов – как ученых-специалистов, так и студентов-гуманитариев.
Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но не будем предвосхищать события и позволим себе еще немного проследить за логикой стилистической интерпретации, обнаруживая в ее направленности на изобразительные искусства желание осмыслять и то, что обеспечивает эти искусства локализацией и, можно сказать, легализацией.
Так, обращаясь к характеристике римской пластики, Дайхманн, пользуясь уже известными нам понятиями, указывает на то обстоятельство, что в стиле изображения фигур («фигуральный стиль») мы наблюдаем устойчивость, однородность и родственность. Именно последние качества только и дают право говорить о стиле, демонстрируемом в фигурах, как основном стилевом течении, которому противостоят дивидуальность и визинальность стиля, противостоящие, в свою очередь, друг другу. Налицо двухслойность стилистической структуры, аналогичной слоистости самого рельефа как способа построения пластического изображения, за которым стоит и структура формирования визуального образа как такового (фигура на фоне). Вся подобная двухслойная структура откровенно гештальтно-психологического свойства закрепляется т.н. ординальным стилем, то есть способом выстраивания отношений онтологически-космологического порядка (регулярность – иррегулярность, космос – хаос). В результате можно за слоями изображения увидеть и слои общества (народные свойства изображения обязательно формируют фон).
Итак, визуализация, психологизация, социологизация – и все это нанизывается на стержень стилистически-эстетических характеристик. Чем не стена, которую пронизывает на разную глубину испытующий взгляд аналитика-интерпретатора? [568]Мы далеки (пока!) от обнаружения у Дайхманна «диафанической стены» Янтцена, здесь нет прозрачности и экранности, это, действительно, больше рельеф, чем витраж, и средство проникновения – скорее проемы в стилистической «стене», которые формируются изобразительным символизмом как таковым, то есть иконографией. Недаром же она противопоставляется стилю, точнее говоря, выступает равнозначным компонентом искусства [569]. А сами стилистические элементы выстраивают своего рода стилистическую типологию, которая сродни архитектурной типологии. Причем именно фигуральность как способ (образ) обращения с фигурами (и отчасти предметами) ближе всего к иконографии, тогда как визинальность отвечает за пространственные характеристики, а дивидуальность – это, несомненно, те же пропорции.
И что особенно существенно для нас, эти разнородные аспекты (измерения) искусства отличаются и различной степенью изменчивости, динамикой развития, когда, например, фигуральность и иконография (особенно это заметно в живописи) представляют собой элементы более статичные. Другими словами, изображение представляет собой довольно разнородную структуру, которую объединяют, организуют некие принципы, равным образом и доизобразительные, и достилистические. Что о них можно сказать, если следовать за рассуждениями Дайхманна? Скорее всего, организующие принципы соответствуют сквозным пространственно-пластическим структурам, равным образом влияющим и на стилистику, и на иконографию, и на видовые различия.
И именно поэтому так легко – как раз анализируя подобные максимально общие, всеобъемлющие качества – можно переходить к социально-религиозным характеристикам этого искусства [570]. Но архитектура, как мы стараемся показать, призвана сохранять специфику искусства, даже если оно утрачивает стилистическую определенность [571]. Характерно в этой связи использование именно архитектонического параметра для общей характеристики тех же восточно-христианских мозаик: они все к V веку утрачивают всякий пространственно-перспективный иллюзионизм и замыкаются в плоскости, которой подчиняются и фигуры, лишенные, в свою очередь, и пластики, и светотени, будучи замкнуты в орнаментализированном схематизме.
Так, проходя в своих наблюдениях по регионам ойкумены, по видам искусства, по художественным традициям, социальным слоям и конфессиональным ориентациям, Дайхманн, не упоминая архитектуру, тем не менее, задумывается о том, что же может служить объединяющим, просто общим началом всего это многообразия? И ответ его поистине фундаментален, ибо он открывает универсальную зависимость любого стилистического явления от материала, вещества, из которого художественная вещь изготовлена. Так что «феномен материального стиля» лежит у истоков не только самой вещи, но и ее замысла, будучи первичным условием ее появления и сохраняя и в готовом творении следы его происхождения и признаки тех закономерностей, которые формируют и поддерживают всякую изобразительность, если не креативность вообще. Здесь важно подчеркнуть и то обстоятельство, что материальный стиль содержит в себе и предполагает личностное начало, которое в нем проявляется двояко: и положительно, и негативно, когда, с одной стороны, свойства вещества диктуют условия для художника, а с другой – испытывают его мастерство и дают повод проявить свою волю в преодолении материального начала и даже его подчинения. Поэтому можно сказать, что именно при встрече с чистой материальностью проявляется и чистая идеальность или, лучше сказать, формальность, из которой проистекает и всякая стилеобразующая сила.
Но, находясь у истоков всякого развития и потому не принадлежа ему, материальный стиль обладает и еще одним свойством, негативно обнаруживающим себя в том, что с его помощью никак нельзя производить датировку памятника. Иначе говоря, материальный стиль находится вне времени, ибо он ближе всего к природе и максимально схематизирован – все по той же причине своей предельной приземленности, что выражается, фактически, в геометризме. Но геометрия и материальность – это и главнейшие свойства архитектурной формы, так что мы вновь сталкиваемся с архитектурой и вновь – как бы невзначай. Получается, что архитектурная типология еще и вне времени, и это многое объясняет…
Но у материального стиля есть еще один аспект, связанный с прагматикой изображения, с исполнительскими сторонами произведения, ведь материал требует своего освоения, подчинения и преодоления, как уже говорилось. Поэтому там, где присутствует материальный стиль, он подразумевает и в себе проявляет технику, мастерство и, соответственно, личность мастера, а значит, и все его связи – и социальные, и психологические, и конфессионально-общинные, и, в конце концов, сугубо художественные [572]. Поэтому не случайно Дайхманн – со все присущей ему точностью – констатирует, что материал, несомненно, «решающим образом определяет стиль», но одновременно предстает таким стилистическим компонентом, который «противостоит единому стилистическому развитию поздней античности» [573]. И тому причина – уже упоминавшийся личностный компонент, а также, что особо нам интересно, – способность искусства изображать допредметный мир, мир вещества, субстанций, их качеств, свойств и характеров, их, так сказать, поведения, а также и поведения человека перед их лицом, в их присутствии. С материальной изобразительностью связана и изобразительность телесная, и все подобное выводит нас вновь к самым сокровенным свойствам, аспектам, измерениям архитектурного образа, только одной стороной которого являются пространственно-топологические характеристики и зависимость от подобной топологии того стиля, что выражается, например, в изменении стилистики согласно местоположению изображения внутри архитектурного целого (иерархия мест переносится и на ранжировку стилистики, т.е. на аранжировку изображения). Так, если в рельефах Арки Константина мы еще видим традиционную римскую манеру варьировать стилистику (фигуральный стиль) в зависимости от темы, то уже в мозаиках Санта Мария Маджоре стиль изображения меняется по мере приближения к алтарю (от большей плоскостности, схематизма и цветовой сдержанности к пространственности, детализированности развитого фона и цветовому богатству). Другими словами, «местоположение в Доме Божием определяет манеру изображения» [574].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: