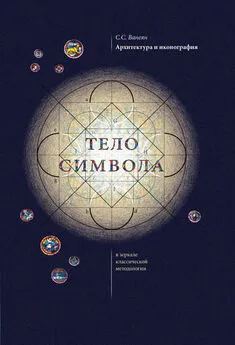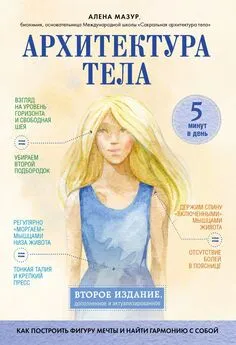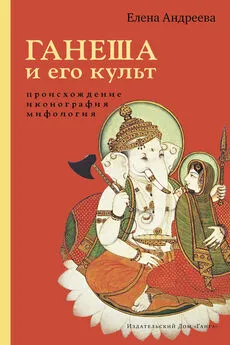С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Название:Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-331-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
С. Ванеян - Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии краткое содержание
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации сакрального зодчества. В рамках общей герменевтики архитектуры выделяется иконографический подход и выявляются его основные варианты, представленные именами Й. Зауэра (символика Дома Божия), Э. Маля (архитектура как иероглиф священного), Р. Краутхаймера (собственно – иконография архитектурных архетипов), А. Грабара (архитектура как система семантических полей), Ф.-В. Дайхманна (символизм архитектуры как археологической предметности) и Ст. Синдинг-Ларсена (семантика литургического пространства). Признаются несомненные ограничения иконографии, заставляющие продолжать поиски иных приемов описания и толкования архитектурно-литургического целого – храмового тела, понимаемого и как «тело символа», как форма и средство теофании. В обширных Приложениях представлен в том числе и обзор отечественного опыта архитектурной иконографии.
Книга предназначена широкому кругу читателей, должна быть полезна историкам искусства и может представлять интерес для богословов, философов, культурологов – как ученых-специалистов, так и студентов-гуманитариев.
Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А если христианская архитектура – еще не реальность, если она только ищет свой экспрессивный язык, и выразительность ее – искомая величина? А что, если самое существенное невыразимо и скрывается, например, в творческом и идейном замысле, и не столько в символах ритуально-аллегорических, сколько в символах мышления, благочестия, поведения? Тогда мы оказываемся в пространстве материала, который предлагает нам раннехристианское искусство, построенное по совсем иным законам, чем зодчество Высокого Средневековья.
В результате мы имеем и принципиально иной подход, хотя и он тоже именуется иконографией.
ИКОНОГРАФИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АРХЕТИПОВ
Естественно, я знаю, что «чистых фактов» не существует; лишь благодаря интерпретации факты становятся доступными. Даже простое описание постройки – уже ее толкование.
Рихард Краутхаймер

Введение в иконографию архитектуры, или Символическая типология
Итак, Эмиль Маль показал, что архитектура сама обладает силой художественного воздействия, является источником и символического, и эстетического вдохновения. Но для Маля смысл возникает только благодаря усилиям и богословов, которые учат, и художников, которые учатся, и, в конце концов, современных иконографов, которые поучают других и приучаются сами к чтению архитектуры. Но нет ли у архитектуры своего собственного языка, на котором она разговаривает, которым пользуются другие и который изучают?
И в каких случаях этот язык звучит наиболее отчетливо? Так появляется еще один способ рассмотрения архитектурного значения, связанный с именем Рихарда Краутхаймера [311].
Не побоимся сказать, что появившаяся в 1942 году в 5-м номере «Журнала Института Варбурга и Курто» статья Рихарда Краутхаймера «Введение в иконографию архитектуры» [312]обозначила принципиально новый этап в изучении интересующей нас темы – возможности смыслового анализа архитектурного произведения , понятого как результат прежде всего художественных усилий, обладающих собственным смыслом и передающих его готовому творению.
Весьма обширная, обстоятельная и по-настоящему фундаментальная статья начинается с выяснения общетеоретических обстоятельств. И решающий фактор, с точки зрения Краутхаймера, – это неприменимость к средневековому искусству классической витрувианской триады «прочность, польза, красота», переводимой обычно на английский как commodity, frmness, delight, что на современном языке именуется функцией, конструкцией и оформлением (design). Краутхаймер вполне справедливо указывает на то, что под дизайном скрывается знакомая всем красота. Но это, тем не менее, не позволяет предполагать обязательность этих категорий для средневекового зодчества по той причине, что в этом самом зодчестве первенствующую роль играл смысловой элемент, имевший характер символический характер, о котором только и повествуют средневековые источники, а вовсе не о конструкции сводов (имеется в виду, конечно же, аббат Сугерий). «Та содержательная сторона архитектуры, которую мы именуем значением, представляется более важной составляющей средневековой архитектурной теории, быть может, это наиважнейшая из [такого рода] проблем, совокупность которых и составляет предмет иконографии архитектуры» [313]. Поэтому задача состоит в том, чтобы преодолеть «формалистический способ рассмотрения», господствующий, говорит Краутхаймер, последние пятьдесят лет (статья опубликована в 1942 г.), подхватить столетней давности традицию церковной археологии, но лишь для того, чтобы только наметить контуры «будущей иконографии средневековой архитектуры».
Сразу замечаем со своей стороны, что уже в обосновании метода не скрывается связь с письменными источниками, прямо-таки зависимость от них, принимаемых за конечные и окончательные документальные свидетельства.
И тут же выясняется, что средневековые описания построек (в них узнается целый жанр еще античного экфрасиса) – это одновременно и исходный пункт рассуждений и наблюдений Краутхаймера. Стоит обратить внимание, что перед ним – и перед нами – нами принципиально новый по сравнению с Зауэром и Малем источник – и более исторический, и более поэтический, и, что самое существенное, более родственный иконографическому методу, в котором момент описания принципиален. Это тоже своего рода словесная репродукция, способная, впрочем, воспроизводить разные вещи.
Архитектурные копии и критерии сходства
Он начинает первую часть своей статьи, названную «Средневековые архитектурные копии», с указания на то вызывающее удивление обстоятельство, что, судя по этим самым описаниям, касающимся многочисленных архитектурных копий, для средневекового человека сходством обладали постройки, которые нам вовсе не кажутся похожими одна на другую. То есть для средневекового человека, взирающего на то или иное здание и подбирающего для своего зрительного опыта словесные эквиваленты , существенны были элементы, таковыми для нас не являющиеся или не значащие для нас то, что они обозначали тогда. Выявление этих элементов и их смыслового наполнения, по мысли Краутхаймера, поможет определить все содержательное наполнение средневековой архитектуры. Другими словами, для средневекового сознания существенно было не внешнее сходство, не внешний вид, не эстетическое переживание, а процесс углубления внутрь архитектонического явления, за поверхность его наружного облика. Крайне принципиально, что подобного рода аналитика стимулируется сравнительными процедурами, выяснением общих свойств вещей разнородных, как кажется на первый взгляд, хотя документальные, письменные источники, повторяем, свидетельствуют об их прочной, но не поверхностной, а внутренней связи, более того, о зависимости одного явления от другого. Замечательно, что сам материал диктует эту самую компаративистику, ведь практика копирования, система отношений «оригинал/извод» реально существовала в средневековом зодчестве.
Самый беглый взгляд на похожие для средневекового человека постройки [314]заставляет сделать вывод: «Средневековые представления о том, что позволяет сравнивать одно здание с другим, сильно отличаются от представлений наших; очевидно, в средние века имелись tertia compartionis, совершенно не совместимые с привычными для нас» [315].
И дабы разобраться в этих «принципах сравнения», Краутхаймер выбирает многочисленную группу памятников (V-XVII вв.), восходящих к одному прообразу, весьма специфическому и уникальному – к иерусалимскому Храму Гроба Господня. Обращение к четырем только копиям (капелла св. Михаила в Фульде, IX век, церковь в Падеборне, XI век, ротонда в Ланлефе близ Каена, поздний XI век, церковь Гроба Господня в Кембридже, XII век) вынуждает сделать вывод, что вообще-то «различия перевешивают сходство». Естественно, это впечатление только усиливается, если все четыре памятника сравнить с оригиналом, главные отличительные признаки которого – ротондальный план, внутренний круговой обход с эмпорами, внешний обход, три апсидиолы, двадцать опор внутреннего пространства, восемь опор по главным осям и три колонны по осям диагональным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: