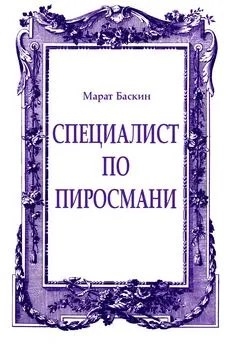Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ
- Название:Пиросмани ЖЗЛ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03844-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ краткое содержание
Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.
знак информационной продукции 16+
Пиросмани ЖЗЛ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одновременно с художником я занимался и его «обстоятельствами места». Как будто не было нужды изучать Грузию и Тбилиси, где я, с рождения, провел 18 лет. Учился, конечно, в русской школе, но нам исправно, с четвертого класса преподавали грузинский язык и литературу, а затем географию и историю Грузии. Книги грузинских авторов я читал постоянно, хоть и в переводах. Грузинская музыка звучала вокруг, и имена композиторов были на слуху, а в обширный и богатый Музей искусств Грузии меня впервые привели очень рано, чуть ли еще не до школы, и с тех пор он стал моим любимым музеем. Я прекрасно знал город, и именно в пределах дореволюционного, «пиросманиевского» Тифлиса (это уже гораздо позже он так бестолково разросся). Я повидал и Грузию, потому что мне (так сложилась жизнь) довелось немало поездить по разным местам, и не в туристском автобусе, а, большей частью, в кузове полуторки.
Все эти впечатления составляли заурядную часть моего повседневного существования, привычную настолько, что мне не приходило в голову о ней задумываться и как-то ее ценить. Сейчас же я к ним возвращался на новом уровне. Читая книги, перелистывая альбомы, разглядывая (с лупой в руке) старые фотографии и видовые открытки, изучая карты, я ощущал, как знакомое до затертости оборачивается скрытой от меня стороной, в бытовом обнаруживается значительное, а в сегодняшнем — древнее.
Так прошло несколько месяцев. Давно пора было отправиться в Тбилиси, но, как мне любезно ответили из Музея искусств, громадная выставка Пиросманашвили давно странствовала по Германской Демократической Республике и ожидалась обратно лишь к апрелю 1970 года. В конце мая я и собрался. Решение далось нелегко. Только что у меня завязался роман — и нешуточный. Но я поехал.
В Тбилиси я не был давно. Старых знакомых осталось мало, одноклассники куда-то поразъехались, даже в родном доме переменилась чуть ли не половина жильцов, а бывшую нашу квартиру заняла жилищная контора, что казалось лучше, чем если бы поселился кто-то посторонний. Я чувствовал себя пришельцем — не нужным и не интересным никому, кроме считаного числа людей, близких мне, но не имевших отношения к тому, ради чего я приехал. Надо было как-то устанавливать новые контакты — с чего-то начинать.
Начал я с фильма «Пиросмани», который вышел на экран как раз незадолго до того и сразу мне очень понравился. Некоторые несоответствия с реальными фактами меня не смущали — это была правда поэзии, а не документа. О фильме много спорили, у него были и есть противники, но я продолжаю его любить и высоко ставить, и его поэтика волнует меня до сих пор — необычное построение сюжета, распадающегося на цепь отдельных, дискретных эпизодов, порой не соприкасающихся прямо друг с другом, завораживающая статичность кадров-картин, величественная музыка, временами прерывающаяся тревожными ударами. Сейчас мне кажется, что фильм этот стал для меня чем-то вроде камертона в работе над книгой: не искать первых попавшихся объяснений, не домысливать очень уж настырно, не связывать и не выстраивать там, где не связывается и не выстраивается.
Я раздобыл телефон Георгия Шенгелая (постановщика фильма) и позвонил ему, еще не зная, что услышу в ответ. Он сразу позвал меня к себе домой и поделился всем, что успел набрать и узнать, работая над фильмом: называл еще неизвестные мне публикации и источники, диктовал телефоны людей, с которыми непременно надо было встретиться, и тут же звонил некоторым из них, предупреждая обо мне. Мы проговорили несколько часов, мы были ровесниками и легко понимали друг друга. Среди нужных мне людей одним из первых он назвал исполнителя главной роли и добавил, ощутив мое недоумение: «Он не актер, он художник».
Автандил Варази в самом деле был художником-постановщиком фильма, а исполнителем стал в процессе подготовки к съемкам, после безуспешных поисков нужного актера. Я встретился с ним. То, что он говорил о своем восприятии искусства Пиросманашвили, показалось мне очень интересным и важным. У нас быстро установились достаточно близкие отношения, при каждом моем приезде в Тбилиси часто встречались, а он, изредка попадая в Ленинград, так же неизменно бывал в нашем доме и даже как-то прожил у нас несколько дней. Мне кажется, что со мной он был откровенен. Всё же не рискну утверждать, что я его хорошо понимал и знал. Он был слишком сложен и противоречив, а его откровенность всегда сдерживалась деликатностью и тактом интеллигентного человека, не желающего ни навязывать другим свою точку зрения, ни обременять их своими заботами. Всё, что произносят люди такого рода вслух, — лишь небольшая часть того, что они несут в себе.
Сейчас, на расстоянии прошедших лет, все наши встречи как бы слились в одну: продолжительное, до ночи, сидение в его мастерской, памятной многим — в обшарпанной и полузапущенной комнате, с паркетом, утратившим часть плиток, при свете голой лампочки, свисающей с потолка, и под нескончаемый аккомпанемент любимого им вальса-бостона «Звезды в твоих глазах».
Это был человек красивый и внешне, и внутренне. Печать эстетизма и того редкого свойства, которое можно назвать духовным аристократизмом, лежала на нем и на всем, что он делал и как делал, парадоксально соединяясь с нищенским убожеством его быта. Георгий Шенгелая поступил неожиданно, но мудро, назначив его вдруг на главную роль и проявив при этом редкую настойчивость. Он не был актером и, конечно, ничего не «играл», но само присутствие на экране незаурядного и обаятельного человека, принадлежавшего (я в этом уверен) к той же породе людей, что и сам Пиросманашвили, наделенного высоким идеализмом, трудно переносящего столкновение с пошлой и грубой действительностью, сохранялось на экране, и даже явная скованность перед камерой выглядела как сдержанность человека, ревниво оберегающего свой мир, и придавала его герою некоторую загадочность.
Скорее всего, именно эти личностные качества, помимо живописного дарования, и определили своеобразие его места в искусстве. Живописец он был прекрасный — умный и серьезный; это без слов понятно каждому, умеющему видеть. Вместе с тем он не случайно оказался способен, не употребляя никаких специальных усилий, а самим своим существованием, соединить вокруг себя художников разного возраста и разного уровня дарования — и ровесников, соперничавших с ним, и молодых, его почитавших. Будущие историки грузинского искусства употребят, наверно, понятие «круг Варази» — это будет достойный памятник художнику.
Мне кажется, что суть постигшей его трагедии и заключалась в неразрешимом конфликте между чрезвычайно высокими представлениями о правах, возможностях и обязанностях искусства — и ограниченностью собственных возможностей, которую он, как человек глубокий, не мог не сознавать, а как человек гордый и самолюбивый склонен был болезненно преувеличивать. Мне кажется также, что его участие в фильме, может быть, тоже сыграло тут свою роль: он слишком близко прислонился к своему персонажу и должен был испытывать какие-то сложные чувства от того.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: