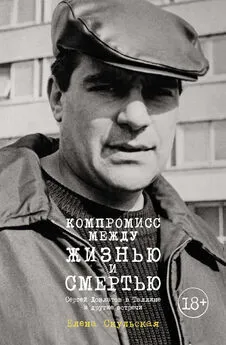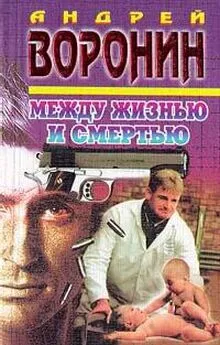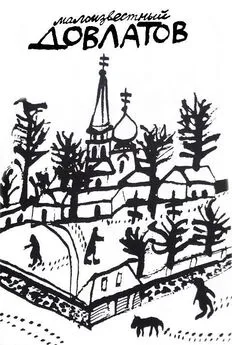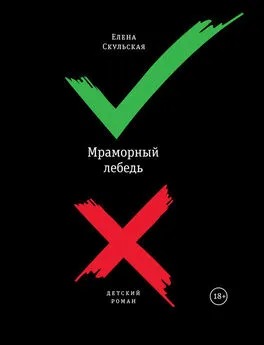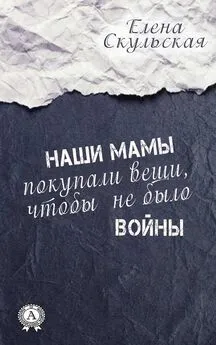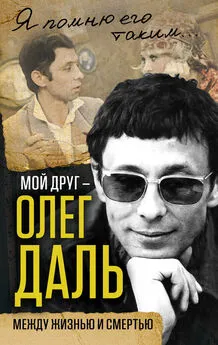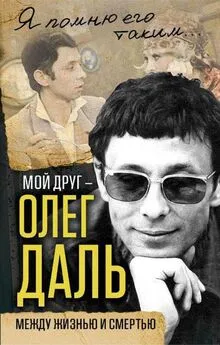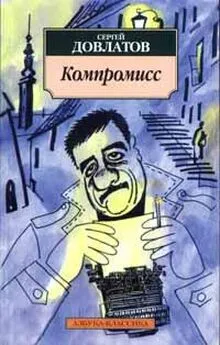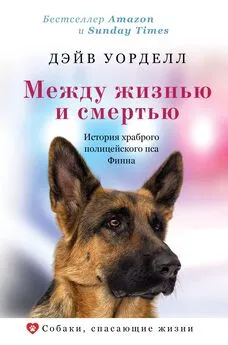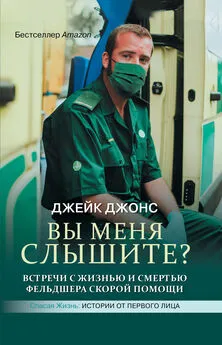Елена Скульская - Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи
- Название:Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-14491-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Скульская - Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи краткое содержание
Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века.
Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кузнец В. был неоднократно в 30-х годах отмечен советской печатью и радио, награжден орденами как один из первых стахановцев, то есть рабочих, во много раз перекрывающих на своем производстве принятые нормы. Стахановцев регулярно собирали на специальные съезды в Москве, где В. предстояло однажды выступить перед членами правительства с рассказом о собственных успехах и достижениях своего завода. Однако, когда за несколько часов до выступления директор завода принес В. его заранее написанную речь, кузнец отказался выступать с этим текстом и объявил начальнику: «Хоть я необразованный, малограмотный, но ясно вижу, что вы хотите, чтобы я помог вашему обману: ведь дела на заводе очень плохи, и мы все это хорошо знаем, а вы предлагаете, чтобы я сказал, будто все у нас хорошо и прекрасно». Директор грозил кузнецу, назревал скандал, потому что выступление В. было уже запланировано. И этот план был известен самому Сталину. Тем не менее рабочий решительно отказался читать лживую речь. В перерыве между заседаниями стахановского съезда к В. подошел главный редактор газеты «Правда» Михаил Кольцов (позже репрессированный) и поинтересовался, почему В. не хочет выступать. Кузнец отвечал, что не желает врать; Кольцов повел его за кулисы, где в специальной комнате сидел Сталин и несколько других членов правительства. Снова – вопросы к В., и опять его честный ответ, что пока дела на заводе не поправлены, он не хочет их восхвалять и обманывать людей. Услышав все это, Сталин, дружески улыбаясь, посоветовал кузнецу выступить и сказать всю правду. В. был очень рад, благодарил и вскоре поднялся на трибуну, чтобы рассказать о том, что на самом деле творится на его заводе. Речь В. была сильной и правдивой. Когда же директор завода попытался, на том же заседании, дезавуировать сказанное В., и доказать, что дела на предприятии не так уж плохи, – Сталин из президиума одернул директора и сказал, что лгать стыдно и нужно всегда говорить правду, как это сделал товарищ В.
Все поздравляли В. с открытым, смелым выступлением, однако по возвращении домой он узнал, что его директор и несколько ведущих инженеров завода арестованы как «враги народа», пытавшиеся обмануть свое правительство. На В. стали смотреть косо, как на доносчика; когда же прошли годы и после смерти Сталина лидеры завода были реабилитированы (почти все посмертно) – дети и внуки этих несчастных людей стали бить стекла в доме погубителя их родных.
«Чем же я виноват? – спрашивал В. у приезжавших к нему журналистов и историков. – Я правду говорил, никому не хотел втирать очки, что же, лучше было бы, выходит, если бы я как попугай прочитал всё, как мне директор написал?! Я не сажал моих начальников, а выходит, будто посадил. Чем я виноват?»
В августе 1946 года Жданов клеймил перед ленинградскими писателями Ахматову и Зощенко. В конце обратился к залу: «Называйте других недостойных, тех, кто вредит нашему делу!» И из зала тут же начали выкрикивать десятки фамилий.
Казалось, все называли всех, и только что объявивший своего соседа врагом мог быть через минуту назван так же…
Много лет спустя, однако, люди клялись, что они выкрикивали имена своих товарищей не с тем, чтобы их погубить, а, наоборот – чтобы спасти! Последующая практика показала, что тех, кто попадал в фокус общественного внимания, обычно не арестовывали по какому-то странному правилу. Многие же, избежавшие публичного оглашения, были вскоре репрессированы и погибли в лагерях…
… У меня хранится письмо Натана Яковлевича, которое я получила в августе 1989 года, перед самой его смертью. Может быть, это было даже последнее письмо, которое он написал в жизни, как говорила мне потом Юлия Мадора. Я писала тогда книгу об отце и послала Эйдельману несколько глав. Натан Яковлевич тут же доброжелательно откликнулся и написал, что сам мечтает выпустить книгу о своем отце, что, проведя большую часть жизни в веке прошлом и позапрошлом, он все острее чувствует неоплаченный долг. Близкий друг Эйдельмана Александр Борин рассказывал, что отрывки из будущей книги об отце Натан Яковлевич читал ему в последние месяцы жизни.
Натан Яковлевич называл область своих интересов «продленное прошлое». Письмо его ко мне завершается так: «Желаю не покоя (которого не будет), а Вам все-таки – счастья (которого, кажется) «на свете… нет».
То есть он никого не подталкивал к поискам «воли», никого не заставлял, не побуждал идти своим путем. И все-таки написал мне еще: «Воображаю, как нелегко Вам в «минуты роковые»: наверное, ведете дневник и когда-нибудь напишете?»
Дневник не веду, Натан Яковлевич. Что написала – не мне судить, что напишу еще – не мне знать. Но всё, что вы говорили мне, помню. А это – большое утешение.
III. Правда о том, что можно
В 1984 году Алексей Герман приезжал в Таллин со своим фильмом «Мой друг Иван Лапшин». Фильм был выстроен как стихотворение Хлебникова: невнятные бормотания; слова, заглушенные грохотом маршей; недоговоренные эпизоды складывались в ту гениальную достоверность и правоту, которую ощущаешь физически.
Как герои Достоевского в минуты крайнего душевного волнения всегда заболевают физически, их бьет лихорадка, они бредят, так и герои Германа почти сплошь больны. Простуда, кашель, вечные скомканные носовые платки, потные рубашки, несвежее белье, глубокие затяжки папиросой, снова кашель, бессонница, слезы под утро на глазах. Лихорадка. 1937 год.
У главного героя – Лапшина в Гражданскую была тяжелая контузия, дикие боли, страшные приступы, и он не только не собирается лечиться, но и стыдится этих приступов до безумия. Его сосед, вынимая градусник, говорит лихо: «Вот, уже 37 и семь». И с той же лихостью выбегает в коридор и раскачивается на канате. «Мигрень, второй день мигрень!» – кричит героиня фильма, актриса местного театра, и все понимают, что она кокетничает с актерской чрезмерностью. А когда бандиты ударяют ножом Ханина, московского журналиста, участвующего в облаве вместе с милиционером Лапшиным, мы слышим только одну жесткую и деловую фразу: «Полотенце дайте, кишки вываливаются!» Тяжело раненного Ханина везут в больницу на грузовике. Лицо стянуто грязью, как маской. Он лежит на спине и, по логике толстовского повествования о князе Андрее, должен смотреть в небо, но нет, он скашивает умирающие глаза на дорогу, пытается разглядеть – поймали его товарищи бандитов или нет…
Все герои влюблены, все несчастны, все одиноки. Ханин (эту трагическую роль сыграл комик Андрей Миронов) с легким смешком повторяет: «А у меня жена умерла, приказала долго жить». Улыбается и крадет пистолет, чтобы застрелиться. Он не может и не хочет жить без своей жены. Но дело в том, что для самоубийства необходимо уединение, а оно невозможно. Все всегда вместе, все ходят строем, все поют хором; Ханину негде спрятаться, в общую ванную начинают через несколько секунд стучаться; он остается жить. Чтобы через несколько часов его зарезал бандит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: