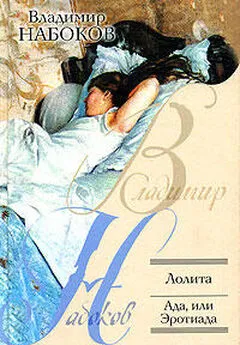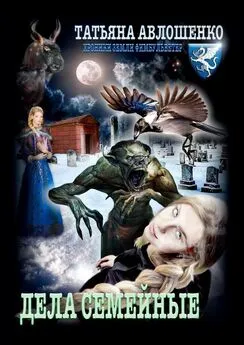Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника
- Название:Семейная хроника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1575-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Аксакова-Сиверс - Семейная хроника краткое содержание
Семейная хроника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На этот ландшафт мы могли смотреть с 1938 по 1941 год. С начала войны нашу расширившуюся зону обнесли высоким дощатым забором, и мы перестали что-либо видеть, кроме неба над нашими головами.
Одним этапом с нами прибыл и доктор Готлиб, возглавлявший медучреждения участка. Будучи терапевтом, в сложных хирургических случаях он приглашал на консультацию хирурга Алексея Семеновича Никульцева, имевшего, как и все мы, срок в десять лет, но жившего за зоной, потому что он обслуживал начальствующий и вольнонаемный персонал. Никульцев происходил из самарской купеческой семьи, учился в Ленинграде, последнее время работал в гинекологической клинике профессора Окинчица, готовил научный труд по сепсису и совершенно неожиданно для себя и окружающих очутился в Пезмоге. Это был высокий, широкоплечий человек с приятным лицом русского склада. Впоследствии, начав с ним работать, я пустила в свет и упрочила за ним прозвище Алеша-богатырь, но в 1938 году его фигура (по-видимому, от долгого пребывания в тюрьме) еще имела юношескую стройность.
Состав наших больных с переездом в Пезмог резко изменился. Это не значит, что здесь не было цинги — она была, но превалирующее большинство страдало глубокими флегмонами и рожистым воспалением, протекавшими исключительно тяжело. Это объяснялось тем, что незадолго до нас прибыл этап с Дальнего Востока. В забитых досками вагонах за долгие недели следования развились все виды гноеродных инфекций. По словам очевидцев, многие в дороге умерли, а оставшиеся в живых и попавшие в Пезмог заполнили наше хирургическое отделение. Впоследствии Никульцев говорил, что инфекция 1938 года была как-то особенно вирулентна, и, так как современными мощными антибиотиками мы в то время не обладали, то нам почти никого из наших больных спасти не удалось.
Помню студента из Батума по фамилии Бабишвили. Он был в полубессознательном состоянии; его коленный сустав крест-накрест пронизывали две дренажные трубки, из которых в громадном количестве выделялся гной. Жара в конце августа стояла нестерпимая, и нас буквально съедали комары. На подъеме левой ноги у меня оказалась царапина. Работали мы в самых примитивных условиях, и в эту царапину во время перевязки, по-видимому, попал гной от Бабишвили или от кого-нибудь другого. Я этого не заметила и была очень удивлена, когда почувствовала озноб, недомогание, а температура у меня поднялась до 39°. Меня начали лечить от малярии. Я глотала хину, но улучшение не наступало. Наконец все сомнения диагностов разрешились: на подъеме появилось багровое пятно и красные полосы наметились по ходу голени и бедра. Началось воспаление лимфатических путей, закончившееся глубоким воспалением бедренных лимфоузлов.
Сначала я не поддавалась болезни, не понимая серьезности положения, пыталась ходить, но с каждым днем мне становилось хуже и хуже. Начались сильные боли в бедре, температура все время держалась около 40°, появилось отвращение к пище, и я впала в полусознательное состояние, в котором пребывала не менее четырех месяцев. Особенно мучительными были ночи с бредовыми кошмарами. Днем же я приходила в себя, и с особой четкостью передо мной возникали образы раннего детства. Так, я часами перебирала в памяти игрушки, украшавшие наши елки: особое удовольствие мне доставляли золотой павлин с радужным хвостом и картонная будочка с сидящим перед ней на цепи мопсиком.
Однажды мне приснился Рим, и я решила, что доктор Готлиб похож на того упитанного кардинала, которого я видела в дни своей юности в соборе Святого Петра. Наутро я почувствовала себя несколько лучше и, вместо того чтобы перебирать в уме елочные игрушки, попросила карандаш и сложила несколько куплетов, свидетельствующих о том, что даже в самые тяжелые минуты меня не покидало чувство юмора (см. главу «Вторая поездка за границу»). Готлиб был весьма польщен.
Однако день, когда я могла писать эпиграммы, явился лишь небольшой передышкой в поступательном ходе моей болезни, которая переходила в общее заражение крови.
Наступил час, когда боли в бедре стали настолько нестерпимы, что я — единственный раз в жизни — кричала на всю палату и просила морфия. (В воспалительный процесс, по-видимому, включился мощный бедренный нерв.) С тех пор в продолжение четырех месяцев я весь день жила мыслью о кубике морфия, который мне вводили в 9 часов вечера и который давал мне передышку и забвение до 4 часов утра. С рассветом мучения возобновлялись.
Удивительно то, что я совершенно не привыкла к наркотикам и, как только острые боли прошли, никогда больше не вспоминала о морфии.
Месяца через полтора после начала заболевания меня на носилках доставили в больницу для вольнонаемных, где вскрыли флегмону, после чего вновь перенесли на зону. Эта первая операция, как и три последующих, производилась под хлороформом, который в то время был в ходу. Как я теперь вижу, меня резали много, но плохо, вернее, слишком поверхностно, и, за исключением последнего раза, не доходили до главного очага. Никульцев редко бывал в зоне, между операциями я выходила из его поля зрения, так что решение вопроса о смерти или выздоровлении было предоставлено моему организму. Я считалась безнадежной больной, и когда в последний раз меня несли на операцию, окружающие говорили: «Ну зачем эту несчастную женщину напрасно мучают. Все равно она до утра не доживет».
В палате всех поражало мое упорное отвращение к пище (в условиях лагеря это казалось чем-то невероятным). По вечерам меня навещала ехавшая со мной из Саратова моя приятельница Ниночка Гернет, и каждый раз я умоляла ее незаметно унести из тумбочки масло и белый хлеб, которые мне выдавали и заставляли съедать.
Когда от меня остались одни кости и я оказалась, говоря медицинским языком, совершенно «обезвожена», мне стали подкожно вводить большое количество физиологического раствора — как известно, это весьма неприятная процедура. Когда мне всаживали в здоровое бедро толстую и довольно тупую иглу, я говорила: «Это больно, но, конечно, лучше, чем съесть котлету».
К зиме на зоне закончилась постройка большого больничного барака, куда меня и перевели из хирургического отделения. Этот перевод ознаменовался новым мучением: за дощатой перегородкой в небольшой каморке поместили сошедшего с ума молодого татарина или башкира, который день и ночь без перерыва кричал попеременно две фразы: «Батыра, батыра!» и «Вулю-пулю!». Вуль был начальником лагеря, которого никто из нас не видел, так что фраза «Вулю-пулю», по-видимому, прельстила шизофреника своей рифмой. Никуда нельзя было скрыться от этого несмолкаемого крика, перебивавшего действие морфия и усугублявшего мои страдания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: