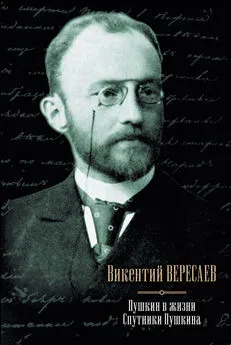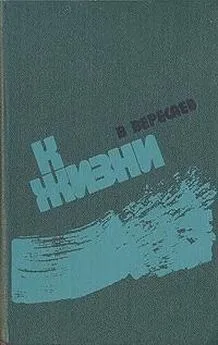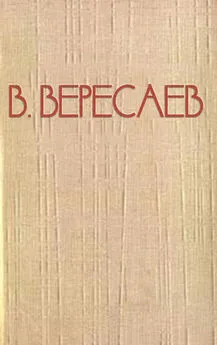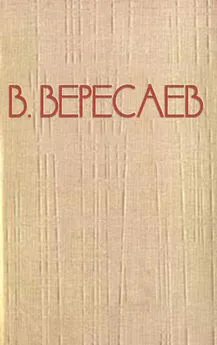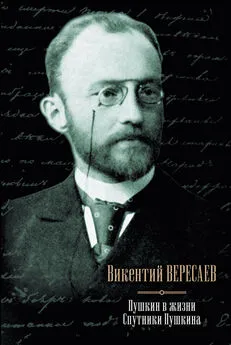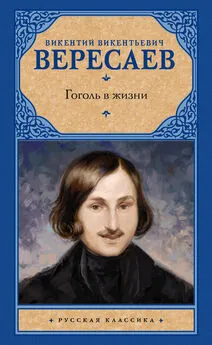Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина
- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание
Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Москва окружила Михаила Орлова почетом и уважением, как генерала Ермолова, как Чаадаева, как других талантливых людей, у которых николаевский режим отнял возможность деятельности. В 1834 г. с ним встречался в Москве Герцен. «Бедный Орлов, – рассказывает он, – был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала. Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщало его наружности неотразимую привлекательность. От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу принимался писать «О кредите», – нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах, и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое ставило Орлова в беспрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной, – говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», – говорил другой голос. От этого Орлов делал беспрерывные ошибки. Вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался – и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение». Второй раз Герцен видел Орлова в 1841 г., по возвращении своем из ссылки. Орлов произвел на него ужасное впечатление. «Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение и не видел выхода. Работавши семь лет и все по-пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением, а не с увлечением смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос. Но не выдержал». Через два месяца Орлов умер. Герцен записал в дневнике: «Я посылаю за ним в могилу искренний и горький вздох; несчастное существование оттого только, что случай хотел, чтоб он родился в эту эпоху и в этой стране».
Владимир Федосеевич Раевский
(1795–1872)
Сын одного из богатейших помещиков Курской губернии. Семья была многочисленная, родители не любили мальчика за строптивость и «гордость». Обучался в московском университетском Благородном пансионе. Служил в артиллерии, за участие в Бородинской битве награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость». Участвовал и в заграничных походах 1813–1814 гг. «Из-за границы, – вспоминает Раевский, – я возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники забивали солдат под палками, боевых офицеров вытесняли из службы; усиленное взыскание недоимок, строгость цензуры, новые наборы рекрут производили глухой ропот. Власть Аракчеева, ссылка Сперанского сильно волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества». Раевский с воодушевлением вступил в «Союз благоденствия» и стал его деятельнейшим членом.
В 1820–1821 гг. Раевский в Аккермане командовал ротой 32-го егерского полка, входившего в состав дивизии генерала М. Ф. Орлова. Он выделялся необыкновенной человечностью в обращении с подчиненными, много заботился об умственном и нравственном развитии солдат, завел в полку ланкастерскую школу взаимного обучения, на свой счет обул всю свою роту. С начальствующими лицами держался независимо; свирепый служака Вахтен, начальник штаба корпуса, пришел в великое негодование, что Раевский много говорит за столом при старших и тогда, когда его не спрашивают. В 1821 г. М. Ф. Орлов перевел Раевского в Кишинев, сделал своим адъютантом и поручил ему заведывать солдатской и юнкерской школами в Кишиневе. Здесь Раевский повел систематическую политическую пропаганду среди солдат и юнкеров. Проходя географию, говорил о формах правления и разъяснял преимущества конституционного строя перед деспотическим, помещал в прописях имена Брута, Кассия, испанских революционеров Квироги и Риего, разъясняя, кто они были.
Раевский был человек очень образованный, горячий и пылкий, ярый спорщик. Он близко сошелся с Пушкиным. Встречались у Орлова, Липранди и постоянно спорили. Пушкин был очень самолюбив, но в спорах с Раевским укрощал свое самолюбие и нарочно вызывал Раевского на споры с видимым желанием удовлетворить свою любознательность. А самолюбию приходилось иногда страдать жестоко. Однажды Пушкин ошибочно указал на карте Европы одну местность. Раевский кликнул своего человека и предложил ему указать на карте пункт, о котором шла речь; человек тотчас же указал. Пушкин смеялся вместе с другими, но на следующий день взял у Липранди географию Мальтбрена. И вообще после споров с Раевским часто брал из богатой библиотеки Липранди книги, касавшиеся предмета спора. Раевский сам писал стихи, много спорил с Пушкиным и на литературные темы. Между прочим, страстно доказывал, что русский поэт не должен черпать сюжетов из античной истории и мифологии, что у нас есть своя история и мифология. Пушкин не соглашался, но, как думают, не без влияния этих бесед вскоре написал «Песнь о вещем Олеге» и стал набрасывать драматическую поэму «Вадим». Раевский старался также убедить Пушкина направить свое творчество на общественные и политические темы.
Возникло дело о «бунте» в Камчатском полку, о чем уже рассказано в главе о М. Орлове. Вечером 5 февраля 1822 г. Раевский лежал у себя на диване и курил трубку. Вдруг в дверь раздался стук, торопливо вошел Пушкин, очень взволнованный; сказал необычным голосом:
– Здравствуй, душа моя!
– Здравствуй. Что нового?
– Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.
– После бесчеловечных пыток Сабанеева доброго я ничего ожидать не могу. Но что такое?
– Сабанеев сейчас уехал от Инзова. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слышу, часто повторяют твое имя, – приложил ухо. Сабанеев утверждал, что надо тебя непременно арестовать; наш Инзушка, – ты знаешь, как он тебя любит, – отстаивал тебя горячо. Долго говорили. Я многого недослышал. Но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано: ничего нельзя открыть, пока ты не арестован.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: