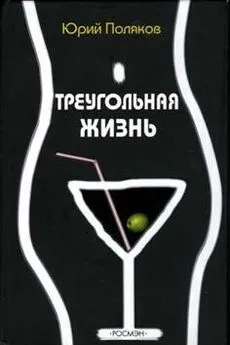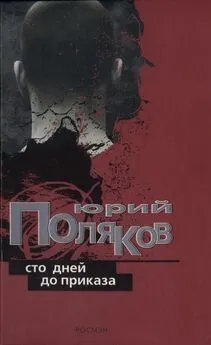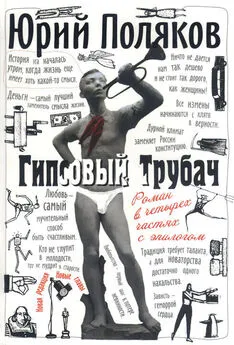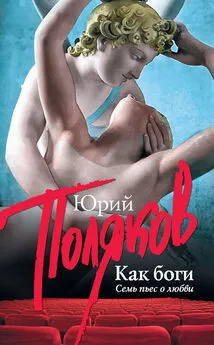Юрий Поляков - Селфи с музой. Рассказы о писательстве
- Название:Селфи с музой. Рассказы о писательстве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аргументы недели
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6043544-7-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - Селфи с музой. Рассказы о писательстве краткое содержание
Селфи с музой. Рассказы о писательстве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, если ты сегодня в условиях свободы принесёшь в класс и попытаешься впарить детям «Майн кампф» или «Протоколы сионских мудрецов», тебя тоже посадят-за разжигание межнациональной розни. Закон есть закон. Юрий Петухов, неудобный, очень талантливый исторический писатель, в начале нулевых годов издал книгу, где предложил неполиткорректную версию древней истории Ближнего Востока.
Если грубо, его гипотеза выглядела так: семитские племена долгое время жили под стенами хеттских городов и питались отбросами высокоразвитой арийской цивилизации. Спорно, конечно, но бывают гипотезы и почуднее. Так вот, на Петухова по заявлению бдительных граждан завели дело. Тюрьмы он избежал только благодаря гневному письму ведущих литераторов, опубликованному в «Литературной газете». Узнав, что дело закрыто, несчастный пошёл на могилу к матери – поделиться радостью, там, за оградкой, и помер от сердечного приступа, не дожив до пятидесяти…
Но вернёмся в мрачное советское прошлое. Борьба с дефицитом заменяла конкуренцию. В обществе провозглашённого и относительного равенства способность человека преодолеть дефицит во многом определяла его положение в социальной иерархии. И не важно, выражалось это в том, что он мог достать импортный мебельный гарнитур, добыть кожаный пиджак а-ля Дом кино или умел пробить сквозь цензуру книгу о том, о чём другим писать не дозволялось. Пробить можно было талантом, родственными связями или дачными знакомствами с партийными иерархами. Чаще – и тем и другим совокупно. Большими мастерами такого «симбиоза с тоталитаризмом» были шестидесятники, умевшие элегантно дерзить советской власти, не выпуская из губ её питательных сосцов. Да и Жванецкий любил почитать свои юморески на номенклатурных фазендах.
Впрочем, наша идеология в ту пору переживала кризис, связанный с медленной сменой поколений во власти. Например, давно стало ясно, что принудительный атеизм ни к чему хорошему не приведёт, но терпеливо ждали, пока уйдут на покой (читай – из жизни) несколько кремлёвских старцев, в юности подцепивших от Емельки Ярославского неизлечимый вирус безбожия.
Или вот ещё случай,как говаривал дед Щукарь. Году в 1984-м Лариса Васильева пригласила меня принять участие в составлении альманаха «День поэзии». На редколлегии мы решили напечатать большую подборку Николая Гумилёва навстречу 100-летию поэта, чьи стихи, кстати, входили в вузовскую программу по истории русской литературы начала XX века. И про «изысканного жирафа» знал любой мало-мальски начитанный советский человек. Каково же было наше удивление, когда цензор снял всю подборку из вёрстки. «Как? Почему?» «Гумилёв был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре!» – был ответ. «Но он же входит в вузовский курс!» «Изучать – да. Пропагандировать – нет!» – отрезал уполномоченный Главлита. «Ах так! – рассердилась Лариса Николаевна. – Я дойду до политбюро! Гумилёв – великий поэт!» Иона, дама очень влиятельная, дочь конструктора танка Т-34, жена крупного журналиста невидимого фронта, дошла-таки. Но получила тот же ответ: «Не надо раскачивать лодку!» Гумилёв – замечательный поэт, но время ещё не пришло. В СССР вообще жили спокойно, размеренно и неспешно, как в профсоюзном профилактории. А куда спешить-то? Законы мирового развития работают на нас. И опоздали буквально на несколько лет…
Помню, как-то и меня, молодого редактора многотиражки «Московский литератор», вызвали на Китайгородский проезд, в Главлит. «Ну и как это понимать? – спросил цензор университетского вида и ткнул ухоженным ногтем в строчку поэта-фронтовика Николая Панченко:
Зашивали суровыми нитками рот.
Я почувствовал, как сердце и партбилет, лежавший в левом боковом кармане, сообща болезненно затрепетали. Надо было что-то отвечать, безмолвствовать в ответ на вопрос начальства – гарантированная гибель, и меня озарило: «Он фронтовик. У него было челюстное ранение…»«Челюстное ранение? – задумчиво повторил цербер и улыбнулся. – Ну, тогда другое дело!»
Советский читатель во всём искал фронду, подобно тому, как эротоман в любом бытовом предмете ищет сексуальную аллюзию. Какая читателю, в сущности, разница – «зашивали рот» лирическому герою в буквальном или переносном смысле? И без того все знали, что в СССР нет свободы слова. Знал это и цензор, тяготился своими обязанностями и, пользуясь формальным поводом, разрешил чуть больше, чем обычно. В конце девяностых я встретил его на книжной ярмарке, он стал издателем и выпускал популярную серию «Улица красных фонарей».
О кризисе советской экономики тоже сказано немало. Но был ли этот кризис таким уж необратимым, если на ресурсах развитого социализма мы продержались целое десятилетие, ушедшее на провальные рыночные эксперименты, похмельные чудачества и тотальное воровство? Боже, сколько миллионеров, застроивших полмира своими замками, поднялось только на распродаже советского ВПК и распиле гигантов пятилеток! Да, мы были богатой страной с бедным народом. Теперь мы бедная страна с бедным народом.
Как-то я попал на передачу «Суд истории», разумеется, на стороне громокипящего Сергея Кургиняна. Вокруг Николая Сванидзе, страдающего острым инбридинговым антисоветизмом, сбилась стая «младореформаторов» во главе с рыжим бригадиром Чубайсом. Они шумно хвалились, как в 91-м спасли страну от голода. Рядом со мной сидел бывший главный банкир Геращенко и кипел тихим негодованием: «Я сейчас всё про них расскажу! Спасители хреновы!» Наконец он не выдержал и бросил им что-то невнятное про какой-то мутный подзаконный акт. И горластые «спасители» испуганно затихли, словно им предъявили отпечатки их же пальцев на горле жертвы. «Почему же вы всё про них не рассказали?» – спросил я, когда передача кончилась. Геращенко вздохнул: «Всё равно никто не поверит, что такое можно вытворять со своей страной!» – и посмотрел на меня грустными глазами человека, причастного к страшным тайнам финансового Зазеркалья.
Гуманитарный склад ума натолкнул меня на мысль, что крах советской цивилизации объясняется в основном духовно-нравственными причинами. Однако диссиденты тут ни при чём или почти ни при чём. Узок, как говорится, круг этих революционеров, страшно далеки они от народа и подозрительно близки к зарубежным спецслужбам. Подспудное или явное презрение элиты к собственной стране, к её историческому выбору ведёт к катастрофе. Так и случилось. «Контрэлита» всегда предлагает новый путь национального развития. Наша «контрэлита», приведённая Горбачёвым, смогла лишь оформить условия позорной, если не преступной капитуляции перед геополитическим противником, после чего разбежалась на ПМЖ по тёплым странам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: