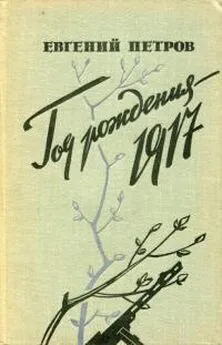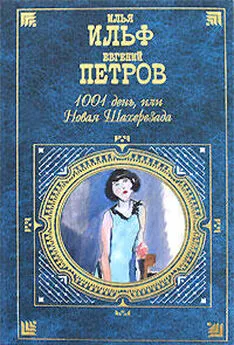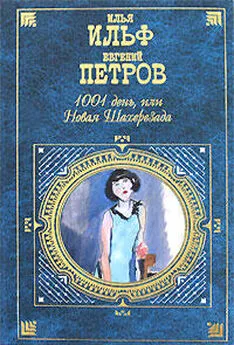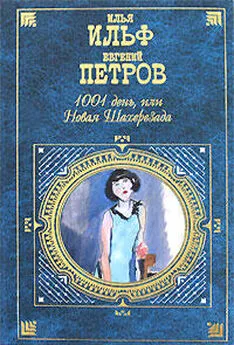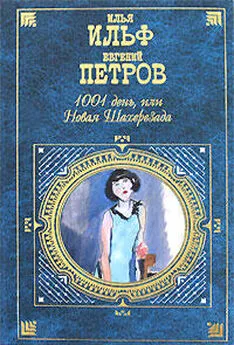Евгений Петров - Год рождения — 1917
- Название:Год рождения — 1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Петров - Год рождения — 1917 краткое содержание
В суровые годы военных испытаний автор повести Евгений Петров был фронтовым журналистом. О поколении, выстоявшем и победившем в войне, о судьбах многих ее героев и рассказывается в книге.
Год рождения — 1917 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А вы наш читатель?
Слава осторожно толкал меня, заставляя говорить то, чему учил меня в дороге: проси, чтобы записали, назовись, у какой учительницы учишься — не откажут.
Набравшись смелости, выпалил:
— Галина Ивановна Пальмова нас учит.
— Ну, если Галина Ивановна, тогда какой разговор! — ответила библиотекарша. — Галина Ивановна активист нашего клуба, ведущая актриса.
Я стал читателем. Глотать страницы, как Слава, не научился. Совестно было перескочить фразу, чтобы скорее узнать о судьбах героев книг. Совестно перед тем, кто написал эту книгу. Хотелось подольше побыть среди людей, которых полюбил с первых страниц.
Передо мной открывался новый, неведомый мир, словно раздвинулись границы нашей станции, стала ближе и роднее земля, огромная и таинственная. Везде жизнь чем-то схожа: одни снимают сливки, а другие лаптем щи хлебают. А у нас все не так, все по-другому. Вчерашний день не похож на сегодняшний.
Однажды утром за окнами школы вдруг выросли две огромные мачты. И между ними повис провод, который назвали певучим именем — «антенна». На веранде клуба появился крохотный детекторный приемник. По вечерам вокруг него толпились люди, и мы, малыши, замирая, ждали своей очереди, опасаясь, что нам не доверят наушники. Но клубный механик Степан Агеев, протягивая круглые штуки, говорил:
— Ну-ка, голь перекатная, приобщайся к прогрессу!
Я прикладывал к уху черный кругляшок — чудо радиотехники — и помню, как впервые услышал голос издалека, едва различимый из-за стука собственного сердца: «Говорит Москва!» И в этот момент что было сил заорал:
— Я в Няндоме! Я вас слышу!
Люди покатились со смеху. Я их не понимал: «Что плохого в том, чтобы ответить человеку из Москвы?» А Слава Моргунов хвастался:
— А я побольше твоего слушал. Там, понимаешь, про школьника из Архангельска рассказывали. Его теперь весь мир знает.
— Заливаешь, Слава!
— Честное пионерское! Не вру! Понимаешь, какой-то итальянец, по имени Нобель, соорудил дирижабль и отправился на нем к Северному полюсу. Кружил, кружил надо льдами — и исчез.
— Ну, а дальше? При чем тут школьник-то из Архангельска?
— А он свой приемник имел и принял сигнал «SOS», что значит бедствие. Этот сигнал, оказывается, с дирижабля. Теперь итальянцев ищут на нашем ледоколе академик Визе, летчики Бабушкин и Чухновский.
— Когда же ты, Слава, успел этих новостей-то набраться?
— А я днем к механику заглянул. Я не я, если не займусь радиотехникой. Так мне хочется известным стать! Хотел, между нами говоря, бежать от матери путешествовать. А великое, оказывается, можно и дома делать! Верно говорят: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь!»
А вскоре наш клуб стал и кинотеатром. Слава Моргунов, Шура Иванов, Витя Хрусталев и я еще засветло забирались под сцену и часами ждали, когда погаснет свет и пианист ударит по клавишам. Из засады вылезали перепачканные в пыли. Экран был почти рядом, чуть наискосок от нас. Изображение было узкое, сплюснутое. «Овод» запомнился высоким и худущим-прехудущим.
«Красных дьяволят» смотрели ровно двадцать пять раз. Эту цифру мы хорошо запомнили, так как на двадцать шестом сеансе киномеханик вытащил нас из-под сцены, как котят, и серьезно сказал:
— Люди, я считал, сколько вы смотрите одно и тоже. Видимо, нет предела человеческой тяге к искусству! Нет! Я разрешаю вам смотреть бесплатно. Это — награда! Награда — за терпение!
Витя Хрусталев как-то предложил:
— Пойдем в мастерские ФЗУ.
— Кто нас пустит?
— Хо! Спрашиваешь! Да у меня мама там уборщицей работает, будто не знаешь.
— Тогда пойдем.
ФЗУ — еще одно новшество на нашей станции. Там учатся почти все рабочие парни. Преподают в шкоде солидные приезжие люди. Есть среди них и математики, и физики, и химики. Директор школы инженер с большим стажем Петр Васильевич Железков.
Во многих домах уже не в диковинку готовальни, чертежные доски, калька, ватман, тушь — черная и цветная. Парни полдня учатся, полдня работают в мастерских.
И вот мы с Витей вечером пришли в мастерские. Они рядом с нашим домом, а сколько же здесь неизвестного, загадочного. Ходим, разинув рты, вдоль верстаков, заглянули в кузницу. Задрав головы, рассматриваем красивые, новенькие, неведомые еще нам инструменты, размещенные на щитах.
Мама Вити, тихая и добрая, пояснила:
— Не так-то просто научиться рубить зубилом железо, пилить чугун, шабрить медь. На этой выставке — лучшие работы наших учеников. Кто что сделал, под каждым подписано. Вот этот штангенциркуль — дело рук Леши, брата Жени. Ребята сами полировали и воронили эти молотки, кусачки, зубила. Скоро выпуск. Пойдут мальчики работать в депо — кто в паровозное, кто в вагонное. Будут они слесарями, токарями, помощниками машинистов. Скоро, может быть, придет и ваш черед сменить старших у станка.
Отец рассказывал о новостях, вычитанных из газет. Звучали непривычные названия: «Турксиб», «Кузнецкстрой», «Черемхово», «МТС». Словно волшебная музыка, издалека, за тридевять земель, доносился к нам в исконную глушь стук топоров, жужжание пил, рев первых тракторов. Очень жаль, что далеко от нас.
— Но и мы перед ними не в долгу, не лыком шиты, — размышлял отец, будто улавливая мою внутреннюю зависть к тем, кто строит и прокладывает первые машинные борозды.
Пробежав свежий номер газеты, отец загадочно спросил:
— Слыхала, мать, как в Москве назвали наш северный край?
— Где мне знать!
— Не иначе назвали, как «Валютный цех страны». Это тебе не фунт изюма, а золото! На наши корабельные сосны купим машины, а там — знай наших!
На афишных щитах все чаще и чаще появлялись объявления, и каждое начиналось со слова: «Требуются». Требуются техники, инженеры, строители. Эхо большой стройки ощутили мы в Няндоме, когда наступил голод, но не такой, как в гражданскую войну, а другой: возбуждающий, окрыляющий — голод на рабочие руки!
ЗА НЯНДОМСКИМИ СЕМАФОРАМИ…
Дома большое событие. Братишка Леша кончил ФЗУ. Он стал помощником машиниста. Вся семья была в сборе. Папа достал из комода часы и торжественно вручил их Леше.
— Дарю не для красы. Знаю по себе, что нелегко попасть на паровоз. Носи. Пойдешь дальше — заведешь свои.
Это было выше всякой награды.
…Железные дороги России работали по часам фирмы «Павел Буре». Круглые часы с циферблатом, покрытым белой эмалью, с черными римскими цифрами на нем висели на вокзале каждой станции.
Такие же, только карманные, часы выдавались бесплатно людям, связанным с движением поездов. Такие же часы остались и у папы в память о работе машинистом на пассажирском паровозе. Носил он их только по праздникам. Плоская луковица на серебряной цепочке едва умещалась в кармане жилета. Редко, да и то в руках отца, удавалось послушать пульс механизма, посмотреть, как отсчитывает секунды маленькая стрелочка. Иногда, ублажая детскую прихоть, папа открывал крышку часов, позволял разглядеть гравировку Российского герба, с короной, двуглавым орлом, и ровные печатные буквы: «Павел Буре — поставщик двора Его Величества».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: