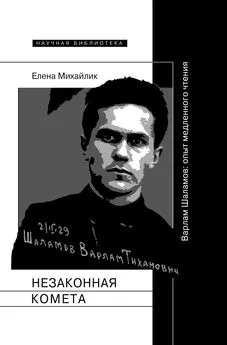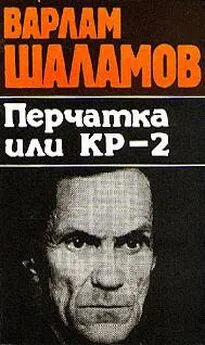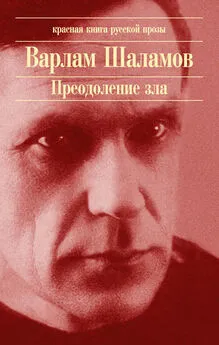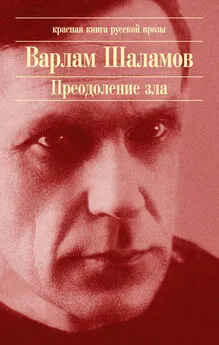Елена Михайлик - Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения
- Название:Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1030-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Михайлик - Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения краткое содержание
Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заданная в финале возможность опознания карцера как отделения ада ретроактивно переосваивает все течение рассказа – меланхолическое описание изъятий и разъятий; оставаясь сугубо лагерной реальностью, становится также и развернутой метафорой, представая уже не в мемуарно-натуралистическом, а во вполне босховском свете [209] Собственно, сцены расчленения, разъятия присутствуют во многих словесных и визуальных описаниях ада.
.
На первый опять-таки взгляд появление образов дьявола и ада в произведении, посвященном лагерям, представляется банальностью. Отождествление лагеря и ада произошло настолько давно, что успело стать частью собственно лагерной мифологии.
Подобная аналогия была совершенно естественной: инфернальные ассоциации издавна привлекались для описания страшного человеческого опыта. Тем более что автор мог опереться на богатую традицию русской литературной чертовщины – от Пушкина и Одоевского до Сологуба и Андрея Белого.
Заметим, однако, что в рамках установившейся традиции ад существует как отделенное от нормального мира неевклидово пространство, а дьявол трактуется как безусловно могучая, но, как правило, внешняя сила. Не случайно и булгаковский Воланд, и испанец из гриновского «Фанданго» изначально заявлены авторами как иностранцы. Даже Остап Бендер (чей образ, согласно А. Жолковскому и Ю. Щеглову [210] См.: Жолковский 1994: 42, Щеглов 1986.
, совмещает в себе приметы романтического дьявола и мелкого беса) называет себя «турецкоподданным».
И для Булгакова, и для Грина, и для Ильфа с Петровым, и даже для Солженицына дьявол – это экзотика, нечто, своим появлением нарушающее статус-кво и властно приковывающее к себе внимание персонажей и читателя. Ситуация, когда чертовщина становится частью быта, высовывает рыжие прусские усы из щелей повседневности, воспринимается как ненормальная, как способ показать ущербность, вырожденность этой повседневности, состояние катастрофы. (Когда Георгию Иванову потребуется описать меру выморочности революционного Петрограда – даже в сравнении с его сомнительно живым имперским предшественником, – он обратится к «Петербургу» Андрея Белого.)
Традиционный дьявол русской литературы взаимодействует с повседневностью, но его присутствие там – знак беды.
В шаламовских рассказах дьявольщина как бы возникает из лагерного быта и представлена читателю естественным – а вовсе не вырожденным – свойством местной вселенной. Дьявол «Колымских рассказов» – бесспорный и обыденный элемент мироздания, настолько не выделенный из окружающей среды, что его весьма деятельное присутствие обнаруживается лишь на изломах, на стыках метафор.
…и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:
– Рютин? Одевайся.
И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись и шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.
– Это мои, – сказал торопливо Рютин, – моя собственность. Я платил деньги.
– Ну и что ж? – сказала овчина.
– Оставьте их.
Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:
– Тебе они больше не понадобятся… (1: 411)
Внутри лагерной реальности шаламовские метафоры всегда точны и исчерпывающи. За людьми, попавшими в расстрельный список, в Севвостлаге обычно приходили ночью, ибо ночью «объекты» всегда на месте – в бараке. И единственной приметой конвоира становился его сословный бараний полушубок – больше внезапно разбуженный заключенный обычно не успевал разглядеть (заметим, что к рассказчику «овчина» стоит спиной, она пришла не за ним). Троп передает строгие (и узко-конкретные) факты лагерной действительности. Возвращение метафорического хода в контекст культуры вскрывает вторую природу метафоры.
В книге «Люцифер, дьявол Средних веков» Джеффри Расселл перечисляет в алфавитном порядке наиболее характерные обличья дьявола в представлении человека Средневековья [211] Мы ссылаемся здесь на источники по Средневековью, ибо, по мнению историков, само представление о дьяволе как об институте окончательно сложилось именно в Средние века – тогда же сформировалась и основная масса легенд, поверий и суеверий, связанных с образом врага рода человеческого.
. Такие же списки приводят – опираясь на труды средневековых авторов – В. Вудс («История дьявола») и М. Радвин («Дьявол в легенде и литературе»). Очень часто князь мира сего является людям в образе животного. По мнению демонологов (современных и средневековых), баран или черная овца были (наряду со змеей, черным котом, обезьяной, козлом, псом и свиньей) излюбленным воплощением дьявола.
Обратим внимание, что на протяжении короткого эпизода конвоир перешел из мужского рода в женский, превратившись из «кожаного человека» в «овчину». Резкая смена глагольных окончаний естественно привлекает к себе внимание читателя. Отсутствие четко определенного пола – одна из важнейших особенностей дьявола. Он, согласно мнению экспертов – православного Михаила Пселла, католиков Шпренгера и Инститора, – с одинаковой легкостью может принимать как мужской, так и женский облик.
И, конечно, причины появления в бараке «кожаного человека» сами по себе наводят на мысль о потусторонних силах. Не счесть песен, сказок и легенд, в которых дьявол приходит за человеком среди ночи и заживо уносит туда, где уже не требуются шахматы.
И все же по обычной ГУЛАГовской процедуре из бараков прямо под сопку не уводили – этому непременно предшествовала некая серия манипуляций: арест, следствие – и тут шахматы могли бы на время и пригодиться. Но как показали исследования Арсения Рогинского, именно в момент действия рассказа эту обычную процедуру заместила особая директива Ежова № 409 от 5 августа 1937 года; дела рассматривались зачастую заочно, по представлению местной оперчасти, вердикт потом спускался вниз едва ли не по телефону:
…люди работали, они ничего не знали, все происходило за их спиной. Выходили на работу, лежали в больнице… А потом однажды их выводили прямо из жилых бараков. Говорили, что на этап. А вели на расстрел. (Рогинский 2013: 13)
То есть слова овчины / кожаного человека в данном эпизоде не метафора, не стяжение долгой процедуры, а самая что ни на есть бытовая бюрократическая правда. Локальные обстоятельства образа действия [212] Это вообще крайне характерная для «Колымских рассказов» ситуация: автор и рассказчики могут путать даты и обстоятельства, места и должности (например, Г. Андреев не был секретарем общества политкаторжан), но скрупулезно точны, когда речь идет о вещах структурных. Если описанная в «Колымских рассказах» картина вдруг расходится с историческими данными, вероятием и здравым смыслом – практика показала, что верить следует Шаламову, а не здравому смыслу. «Иногда все-таки мне казалось: „Ну нет, это слишком, этого не может быть!“ Вот, например, рассказ „Почерк“. Это рассказ о человеке, который переписывал расстрельные списки… То есть то, что я считал невозможным, оказалось возможным – один-единственный раз в ГУЛАГовской истории, именно тогда, вот в этот кусочек 1937–1938 гг. То есть сомнения мои насчет этого момента у Шаламова – зряшные!» (Рогинский 2013: 13).
.
Интервал:
Закладка: