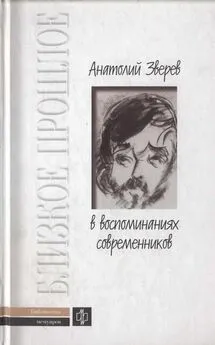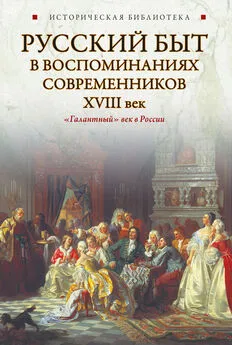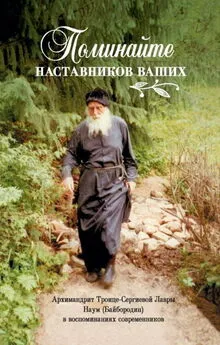Андрей Белый - Николай Гумилев в воспоминаниях современников
- Название:Николай Гумилев в воспоминаниях современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:СП «Вся Москва»
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Николай Гумилев в воспоминаниях современников краткое содержание
Николай Гумилев в воспоминаниях современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тот вечер, когда меня впервые привел к Чудовским Мандельштам, у них были Сологуб с Чеботаревской, Гумилев, Георгий Иванов, Константин Миклашевский, Вольдемар Люсцинус, певец Мозжухин и еще несколько человек из музыкального и актерского мира.
Я не хочу останавливаться на подробном описании доморощенного отеля Рамбулье, где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками:.
Вот я вижу, там
Сидит Мандельштам…
Где автор тоненького зеленого «Камня», вскидывая кверху зародыши бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, предлагал «поговорить о Риме» и «послушать апостольское кредо».
Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой «Ислам» и подзадоривал меня огласить «Пальму праведника», вызывая во мне законное подозрение, что за настойчивостью акмеиста скрывается желание вывести на чистую воду будетлянина, затесавшегося в чужую ему среду. Где, говоря о постановке блоковских драм в Тенишевке, Чеботаревская находила исполнительницу роли Незнакомки, двоюродную сестру моей невесты, слишком terre a terre, но восхищалась музыкой Кузмина, послужившей поводом к пытке звуком, которой подверглись все гости Зельмановой, когда Мозжухин потряс стены квартиры раскатами чудовищного баса.
Где его огромный, похожий на детское колено кадык прыгал в вырезе крахмального воротника, как ядро, готовое разлететься на части в самом жерле гаубицы, и где Гумилев, не переносивший никакой музыки, в особенности когда она принимала характер затяжного бедствия, застыл в страдальческом ожидании ужина.
Я не хочу также останавливаться ни на «журфиксах» Паллады {114} , превратившей свое жилище в образцовый «женклуб», ни на собраниях в других домах; куда мы были вхожи.
…Однажды утром он (Хлебников) пришел ко мне на Галерную и объявил, что твердо решил добиться встречи, но не знает, как это сделать. Я ответил, что единственный способ — это пригласить Лелю Скалон и ее подругу Лилю Ильяшенко, исполнительницу роли «Незнакомки», в «Бродячую собаку», но для этого, разумеется, нужна известная сумма денег на ужин и вино — денег, которых ни у него, ни у меня не было.
Так как он продолжал настаивать, не считаясь ни с чем, я предложил ему отправиться в ломбард с моим макинтошем и цилиндром и взять под них хоть какую-нибудь ссуду. Через час он вернулся в полном унынии: за вещи давали так мало, что он не счел нужным оставлять их в закладе.
Мы мрачно молчали, стараясь найти выход из тупика. Вдруг лицо Велемира прояснилось:
— А не взять ли нам денег у Гумилева?
— У Гумилева? Но почему же у него?
— Потому что он в них не стеснен, и потому, что он наш противник.
— Неудобно обращаться к человеку, который после нашего манифеста еле протягивает нам руку.
— Пустяки! Я сначала выложу ему все, что думаю об его стихах, а потом потребую денег. Он даст. Я сейчас еду в Царское, а вы на сегодня же пригласите Лелю и Лилю в «Собаку».
Он исчез, надев для большей торжественности мой злополучный цилиндр.
К вечеру он возвратился, видимо довольный исходом поездки. Выполнил ли он в точности свое намерение или нет, об этом могла бы рассказать одна Ахматова, присутствовавшая при его разговоре с Гумилевым, но деньги он привез.
Георгий Адамович
МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ {115}
Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения как студент не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорей по отталкиванию от всякого рода неоскабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романо-германцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе, — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений, — профессор Шляпкин спросил его: «Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?»
В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера, — не для публики, а для «своих», — и быть причисленным к «своим», пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем.
…Ахматова была уже знаменита, — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Малларме, беседуя с друзьями, употреблял это слово по отношению к Виллье де Лиль Адану: «Его знаете вы, его знаю я… чего же больше?» В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже «умолял» ее не писать, — и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешивались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака.
Владимир Шкловский
Н. ГУМИЛЕВ. «КОСТЕР» {116}
Лет пятнадцать тому назад {117} я видел Гумилева среди молодых романо-германистов в Петроградском университете. Тогда мы все занимались зараз несколькими языками Запада, сами писали стихи, и я впервые узнал имена Анри де Ренье, Леконта де Лиль и многих других. На этой почве из этой группы многие выросли в поэтов и, в первую голову, конечно, сам Гумилев. С молодости он много путешествовал, был три раза в Абиссинии, хорошо знал европейский Запад. Автор не только прекрасно чувствует русскую жизнь, но прямо космополитичен в оценке Запада. Он умеет ценить красоты Стокгольма, норвежских скал и в месте с тем манящую прелесть Эзбекие, «большого капрского сада». Во всем этом отразились его университетские филологические занятия ранних лет. Поэт «заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен». Скитальческая жизнь наложила печать смелого пользования географическими прозаизмами в стихе, который говорит о «белых медведях в зоологическом саду», о Ледовитом океане, далее о «протестантском прибранном рае», о «нотариусе и враче у одра умирающего».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: