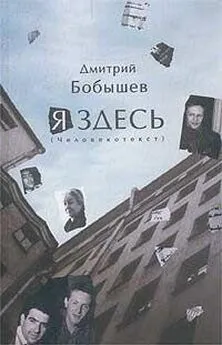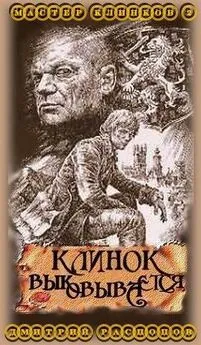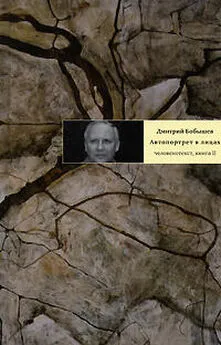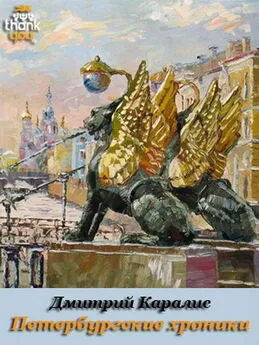Дмитрий Бобышев - Я здесь
- Название:Я здесь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- ISBN:5-9560-0026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бобышев - Я здесь краткое содержание
Я здесь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А — вот что более: африканская скульптура, в которую превращается наша нагая своевольница, и тоже с парижской челкой. Но и это еще не все, — кой-чего необычного “надыбал” издатель филадельфийского альманаха “Побережье” Игорь (Иза) Михалевич-Каплан и рассказал об этом, естественно, на страницах своего издания. Ахматова, может быть, позировала натурщицей и для другого парижского скульптора русско-еврейско-литовского происхождения, Жака Липшица, и тоже — обнаженной! Во всяком случае, кубистическая фигура, представляющая оголенную девушку-рыбачку, в профиль являет несомненное сходство с Ахматовой. Техника кубизма, конечно, не способствует портретному узнаванию, но зато стимулирует воображение. Исследователь и его консультант смогли увидеть даже зашифрованный автопортрет ваятеля в торсе этой фигуры: таким необычным (или ироническим) намеком Липшиц вписывает свою скульптуру в традиционную тему “Художник и его модель”.
И — еще одно совпадение: как раз теперь, когда я пишу эти страницы, в нашем Шампанском (ну хорошо, Шампейнском) Художественном музее, который был основан богачом Краннертом, открылась выставка Жака Липшица. Среди его до-кубистических работ бросается в глаза средних размеров, но монументальное бронзовое изваяние женщины с двумя газелями. Вытянутые пропорции тела, разведенные в стороны руки, гордая посадка головы, профиль… нет, не с горбиной, а без, но удлиненный, разрез глаз и даже челка, — все повторяет тот же образ. Газели воспринимаются как комплименты ее красе. Тут — не кубизм, натура хорошо проработана, с чувственным вниманием вылеплены груди, сосцы и выпуклый лобок восточной пастушки — это особенно заметно в гипсовой модели. Да что мне — примстилось?
Как это ни странно звучит, на выставке оказалось возможным поговорить с самим скульптором, давно умершим. Я набирал на компьютерной клавиатуре вопрос, а в мониторе возникал седой мастер и проигрывалась та часть его давнишнего телеинтервью, которая соответствовала ключевым словам моего вопроса.
Я спросил: кто позировал для его “Женщины с газелями”? Усмехнувшись, он ответил, что, главным образом, газель из парижского зоопарка. И — “одна знакомая натурщица”.
Была ли ему знакома русская поэтесса Анна Ахматова? Он уклонился от ответа, сказав, что в их семье русские стихи писала его жена Берта Липшиц, урожденная Китроссер. И, как ему кажется, довольно прилично…
Тогда я поставил вопрос иначе: где он познакомился с Ахматовой — в Петербурге или Париже? И тут он с увлечением заговорил о Петербурге, куда ездил хлопотать о наследстве в начале десятых годов, с восторгом — об Эрмитаже, где он проводил все свободное время, о встречах с тогдашней художественной молодежью… То есть теоретически они могли встретиться уже там, но и в Париже — тоже.
На этой выставке молчаливо присутствовал еще один мертвец, имевший прямое отношение к вопросу, Амедео Модильяни, — в виде посмертной маски, снятой с него Липшицем. Вернее, так: маску пытались снять двое неумелых поклонников бедного Моди. Забыли, наверное, смазать, маска не отделялась от лица. Все-таки отодрали со всем, что к ней прилипло; она раскрошилась. Плача от всего этого трагического безобразия, Липшиц восстановил, реконструировал гипсовый облик погибшего друга с истовой нежностью: покатый и успокоенный лоб; глаза под смеженными веками как будто бодрствуют, рот приоткрыт. Но когда смотришь на него в профиль, губы смыкаются, как бы заканчивая трудную фразу. Какую? Мертвые молчат крепко.
Роман в стихах
А живые тогда, у Ахматовой, читали стихи. И не по алфавиту, а: Бродский, я, Рейн. Найман, оказывается, чуть ранее знакомил ее с отрывками из своей поэмы “Исчезновение”, о которой я и не слышал. Ахматова молча, кивками, одобряла и уже не советовала “писать короче” даже после протяженных полупоэм Иосифа.
Зато в ответ читала она сама, и притом наряду с былым, но не очень еще отдаленным самое недавнее. Это было внезапно-мощно, могуче… Время, и не только личное, а и собирательно-историческое, казалось у нее выгнутым напряженной дугою, светящейся разноцветно, как радуга. Полюса его не вмещались в пределы одной жизни, а ее поэзия их вмещала. Несмотря на свежесть, лапидарность и пристальность ее ранней лирики в ней все ж попадались и пажи, и “сероглазые короли”, и если не пастушки, то по крайней мере рыбачки, то есть атрибуты времени, отступившего на две, на три эпохи от нас. А в последних стихах были мы сами, еще и взятые на вырост, с опережением стиля, с забегом, может быть, в будущее тысячелетие. Наполненность смыслом создавала какую-то неподъемность, плотность ее языка, делала его похожим на “звездное вещество”, состоящее из спрессованных ядер. “В Кремле не надо жить. Преображенец прав…” — кто может так крупно высказываться — Ахматова? Царица Авдотья? Вот именно — “Анна всея Руси”, как ее назвала Цветаева.
Заговорили о Марине Ивановне: “Поэма горы”, “Поэма конца”, “Крысолов” — это вершины. А читали ли мы “Поэму воздуха” о полете Линдберга над океаном? Вот, возьмите и почитайте, верните с комментариями. Мой комментарий вернулся к ней на следующей неделе вместе с машинописью: стиль разреженный, верхний, с легко разлетающимся на частицы смыслом, противоположный ахматовскому, но и не ставший абсурдом Хлебникова или обэриутов.
— Что ж… И Мандельштам говорил о себе: “Я антицветаевец”.
К теме она возвращалась потом многократно.
В дверь заглянула Аня:
— Акума! Там все готово.
Перешли в кухню, которая служила и столовой. Стол был сервирован тарелками, рюмками, стояли цветы, хлеб, винегрет. По чьему-то хотению появилась и водка. Выпили по рюмке на новом месте. И так стало благодарно-хорошо, как никогда ни до, ни после. Казалось: вся жизнь впереди, вся дружба, — и у нас четверых, и у седой председательницы нашей скромной оргии. Да что там жизнь — вечность!
Как написал Найман в своей “Палинодии” (что, собственно, и означает возврат к прошлому):
Все будет хорошо,
все будет хорошо…
Да, “все будет хорошо” — в былом! Вот бы магически заткать, окуклить и замумифицировать эти мгновения, но они, увы, тикают, такают и утекают… Но что нам делать “с ужасом, который”?.. А, пустить его на самотек!
И — что ж? Еще несколько лет все казалось, что ничего в нашей жизни, кроме новых стихов и разговоров о них, не происходит. Пусть их не публикуют, но вот ведь Ахматова, которую саму не очень-то печатают, стихи эти одобряет. Веселила мысль, что в стране, где уровень привилегий измеряется тем, “кто с кем пьет”, я вот пью водку с Ахматовой. Тешил и контраст: “все вы” (подразумевалось идеологическое начальство) пошло и подло издевались над ней, лишали даже продовольственных карточек, а мы ей дарим розы, признательность и любовь. Да, именно любовь, да, к ней самой, но и к неким “трем апельсинам”, то есть к тому проявлению ее естества, которое делало, можно сказать, гениальные стихи и толстую большую старуху, улыбающуюся полумесяцем губ, нераздельными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: