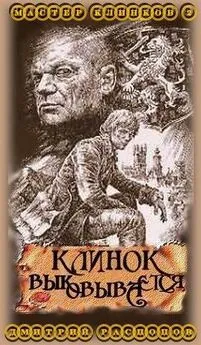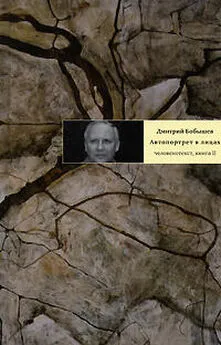Дмитрий Бобышев - Я здесь
- Название:Я здесь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- ISBN:5-9560-0026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бобышев - Я здесь краткое содержание
Я здесь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лето 1955 года склонялось к концу, и я не забыл об уговоре с Рейном навестить его в Мисхоре, где он должен был находиться в это время с матерью Мариной Александровной, преподававшей в Техноложке немецкий язык. Мисхор — это где-то за Ялтой, а в Ялту я уже ездил в прошлые крымские каникулы
с Вадиком и его отцом. Вспоминалась долгая автобусная поездка, жара, Никитский ботанический сад, где мы с Вадимом, загоняя в пальцы колючки, пополняли тайком кактусовую коллекцию дяди Тима, помнился и экзотический ночлег в гостинице.
— Ничего, краденые цветы лучше растут, — говорил в наше утешение добродушный дипломат, укладываясь на бильярдном столе, который был предоставлен нам за неимением лучшего места.
В общем, поездка в Ялту представлялась мне сложной, а Швейгольц был очень не против составить мне компанию, и я опять взял его в попутчики.
В изнуренную жарой Ялту мы приехали к вечеру, дальше автобусов до утра не было. На роскошь бильярдного стола мы не рассчитывали. Решили идти ночью пешком. Когда вышли на Царскую тропу, с горы упала тьма, но над морем взошла полная луна, зачернила кипарисы, засеребрилась, зафосфоресцировала на воде, словно десяток Куинджи. На запах остывающего асфальта накатывали валы хвойных ароматов, запахи сухой глины, сладкие выдохи медуницы и ночных табаков.
Сипловато, но музыкально мой попутчик нарушил тишь, вполголоса запев романс "Выхожу один я на дорогу…". Положим, не "один", а вдвоем, и путь совсем не "кремнистый", но звезда все же заговорила со звездой, в небесах было и в самом деле "торжественно и чудно", и Лермонтов состоялся. Затем, к моему удивлению, Швейк сымитировал голосом сложнейший квартет Бетховена, расчленяя его на партии, а к концу пути перешел на "фортепьянные" импровизации нашего изумительного джазового гения Цфасмана.
Мой приятель и спутник, одаренный не только музыкально, но, как утверждал он, и математически, все-таки кончил плохо: он стал убийцей. Да, убийцей, и об этом я расскажу позже.
Итак, мы еще затемно входили в Мисхор.
Женька-друг в одних трусах захлопотал у калитки, не пуская нас, однако, внутрь.
— Понимаешь, если б ты был один, а то вы вдвоем…
В глубине постройки послышались властные модуляции женского голоса, возня, и через минуту Рейн вышел к нам с двумя одеялами. Утро мы встретили, лежа на земле в парке, головами прислонясь к валуну. Кверху по склону горы в кипарисах прятались дачи, прямо перед нами садовник поливал огромную клумбу с цветочными часами в середине, внизу блестело море с торчащими из воды скалами.
— А где же Мисхор?
— Вот это он и есть. Тут бывают многие знаменитости. На днях, например, был Козловский. Подплыл саженками вон к тому камню, взобрался на него и спел: "Плыви, мой челн, по воле волн".
— Саженки… При чем же здесь челн?
— Ну что ты хочешь от тенора!
— Кстати, о саженках… Вот этот молодой человек обучает меня американскому стилю плавания по методу Джонни Вейсмюллера…
За день мы прошли и проехали по основным красотам и сногсшибательностям курортного Крыма: поднимались на Ласточкино Гнездо, откуда якобы прыгал в море Женькин геройский приятель Генка Штейнберг, постояли в Ливадии, словно цари, на мраморной галерее, прогулялись по запущенному парку, где наш путь пересек павлиний выводок, и заключили прогулку нестерпимым великолепием бухты и скал в Симеизе. Будущий убийца деликатно молчал, когда два поэта обсуждали свои литературные дела и планы, и оказался как нельзя кстати для фотографирования. Я привез с собой камеру и выстраивал сложные игровые композиции на скалах — например, "Дедал и Икар", а Швейгольцу оставалось только нажать на спуск. Я был готов взлететь, Рейн меня и благословлял, и предостерегал от падения.
Турнир поэтов
"Технически" Рейн был старше меня всего на три с половиной месяца, но его день рождения приходился на самый конец декабря предыдущего года, и это "старило" его на целый год — обстоятельство для юных компаний заметное.
Но не это было причиной того, что я, хотя и с оговорками, все же признавал его старшинство.
Сначала — оговорки: мы поступили в институт день в день, в одну и ту же группу, ходили на те же лекции, нервничали во время тех же экзаменов, знали не только слабинки один другого, но и неблаговидности, и это — нормально, из этого складываются отношения однокашников.
Делала его старше какая-то изначальная не-наивность, какой-то скрываемый, пережитый ранее опыт унижения, стыда или страха, экзистенциальный, как говорили тогда, опыт, не только отделивший его от остальных, "неопытных", но и позволивший ему их использовать даже с некоторым игровым азартом. Это, впрочем, касалось дел околобытовых, и тут уж он не позволял себе пожертвовать ни единым пустяком — ни ради дружбы, ни ради хороших отношений, ни просто так, ради чужого удовольствия.
Зато он был самозабвенно предан поэзии, и не только своей, но и моей, Наймана, Заболоцкого, Смелякова, Гитовича, Сельвинского, Лапина и Хацревина, Артюра Рембо и Тихона Чурилина. И он знал много о нашем предмете, любил это демонстрировать, а мне только того и надо было: то, что он сообщал о поэзии, укладывалось в багаж на всю жизнь — факты, тексты, оценки, порой вместе со вздором и выдумками, которыми Рейн вдохновенно заполнял свои неизбежные зияния и лакуны.
А самое главное: к нашему знакомству он в основном уже сложился как поэт. В самиздатский сборник "Анилин", составленный им к концу нашего студенчества, он включил стихи 53-го года, и они звучали тогда убедительно и свежо. Убедительно и даже победительно звучит и выглядит вся эта книжица даже сейчас. Если ей искать генеалогию, то она — из высокопородных, вся в спектре "От романтиков до сюрреалистов" Бенедикта Лившица, плюс наши авангардисты-романтики 20-х годов. Но — ни одного "партийного" звука! Язык ее если не вспахан плугом, то весь перекопан штыковой лопатой — смыслы перевернуты:
У зеркал хорошая память,
там, за ртутью — злоба и корысть.
Патетический ужас губами
собирается в сыпкие горсти.
Вылом скул по гравюрам узкий,
киновари налет пожарный…
Казалось бы, что есть в мире беспамятней, чем зеркало? Но вдохновение перелопачивает очевидное и открывает подспудное: коры'сть (ударение ставится на колени перед рифмой), ужас и злоба делаются так же конкретны и материальны, как ртуть амальгамы. В книге множество грубо, смачно, кубистически раскрашенных метафор, — Рейн знает толк в новейшей живописи, и, как ни странно (в жизни ему медведь на ухо наступил), она джазово, свингово музыкальна. Она и патетична. Но дороже всего это:
Жизнь сквозь стих — светло и жестоко.
Интервал:
Закладка: