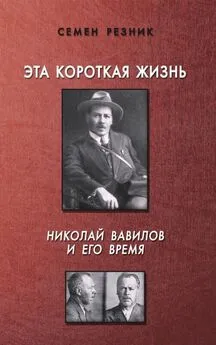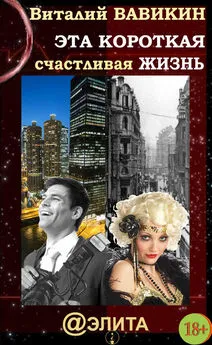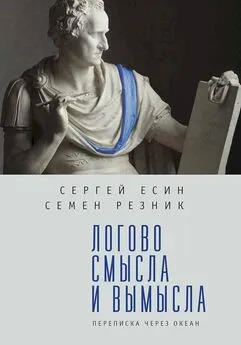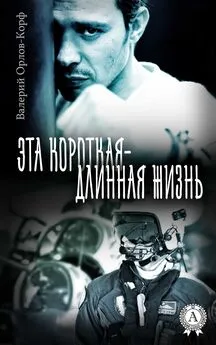Семен Резник - Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время
- Название:Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ирина Богат Array
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-1458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Резник - Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время краткое содержание
Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не только близкие виды повторяют друг друга, но и близкие роды, семейства. Даже у порядков и классов заметны сходные ряды наследственной изменчивости.
Это всеобщий закон природы!
В открытии закона гомологических рядов есть нечто эвристическое. Большинство фактов, которые Вавилов положил в основу закона, были известны ботаникам, как до Менделеева были известны свойства тех шести десятков химических элементов, которые он привел в систему. Надо было лишь охватить совокупность фактов единым взором.
Еще Дарвин подметил повторяемость признаков у родственных видов и родов, но не увидел в этом общего закона природы. К.И.Пангало вспоминал, что Александр Иванович Мальцев также обращал внимание на повторяемость признаков. В 1911–1912 годах он рассказывал практикантам Бюро по прикладной ботанике (значит, и Николаю Вавилову), что, работая с овсюгами, предвидит нахождение новых форм и действительно их находит. Сам Вавилов писал Елене Ивановне в 1921 году из Англии, что профессор Паннет (ученик Бэтсона) тоже близко подошел к открытию закона гомологических рядов. Вавилова радовали такие подтверждения, было даже «не жаль потерять свой приоритет». Открытие закона гомологических рядов назрело в науке, но только Вавилову удалось увидеть то, что ускользало от его коллег!
В одном из его писем к «милой Леночке» есть примечание: «По Оствальду, люди науки делятся на романтиков, увлекающихся, порывистых, быстро переходящих с одной темы на другую, быстро реагирующих. И на классиков, выдержанных, стойких, медленно реагирующих, настойчивых. Мне хотелось бы относить себя к последним, хотя, м. б., я и ошибаюсь».
Он был, конечно, классиком, ибо превыше всего ценил факты, эксперименты и с большой осторожностью подходил к обобщениям. Так его воспитали. В Петровке – Прянишников и Рудзинский. В Петрограде – Регель и Ячевский. В Лондоне – Бэтсон. Так его воспитала научная атмосфера начала XX века, когда в биологии утверждалось экспериментальное направление. Но по натуре он был романтиком. Порывистым, увлекающимся, нетерпеливым, способным к смелым интуитивным догадкам.
Но одной романтичности было мало – нужны были его широкие горизонты. Во всем мире ученые специализировались на пристальном изучении узкого круга явлений и объектов. Не случайно Роберт Эдуардович Регель провозглашал анафему энциклопедизму и косо поглядывал на практиканта, желавшего объять необъятное. Зато впоследствии, предлагая Вавилова на должность своего помощника, Регель ставил ему в заслугу «обширную эрудицию» естественника, совмещаемую с «образованием агронома», что «на деле встречается столь редко среди современных все более специализирующихся ученых».
Узкий специалист не мог открыть закон гомологических рядов.
Его не мог открыть чистый систематик – слишком увлекались систематики разделением растений, да и малый круг объектов был в поле зрения каждого из них. Его не мог открыть чистый эволюционист – слишком общи представления эволюционистов о разнообразии мелких систематических форм. Его не мог открыть чистый генетик, работающий с небольшим числом наиболее удобных биологических объектов (вроде плодовой мушки дрозофилы). Его не мог открыть чистый классик – слишком велико было у классиков недоверие к романтическим обобщениям.
Николай Вавилов был систематиком.
Был генетиком.
Был эволюционистом.
Был классиком по своему научному воспитанию и романтиком по натуре.
Он жадно насыщал себя знаниями. И как кристаллики соли выпадают из перенасыщенного раствора от незначительного толчка, так соударение разных биологических дисциплин друг с другом и с его интуицией привело к «выпадению в осадок» теории гомологических радов, кристаллически чистой и ясной.
Как заметил Н.В.Тимофеев-Ресовский, «обыкновенно человек, накапливая по какому-нибудь вопросу в какой-нибудь области материал, накопив этого самого материала достаточное количество, в конце концов более или менее тонет в этом материале. Материал его захлестывает <���…>. И вот изредка встречаются люди, которые в материале, сколь бы огромен он ни был, не тонут. И вот этим свойством обладал в яркой, ярчайше выраженной степени, Вавилов. Он обладал талантом сбора огромного материала и приведения его прежде всего у себя в голове, а затем и на бумаге, в порядок в форме определенных таблиц» [131].
В докладе на III Всероссийском съезде селекционеров Вавилов демонстрировал таблицы параллельных радов. В них было немало пустых клеток. Подобно тому, как Менделеев, создавая свою таблицу, не боялся оставлять пустые клетки и утверждать, что их должны занять еще не открытые химические элементы, так и Вавилов предсказывал существование не открытых или не созданных путем селекции форм растений.
Аналогия с периодическим законом была очевидной, о чем и сказал профессор В.Р.Заленский, чьи слова привел в своем письме С.И.Жегалов.
Выступивший по докладу Николай Максимович Тулайков сказал:
– Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно: не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович.
Тот самый Тулайков, который осуждал его за «авантюризм»!
Присутствующие хорошо поняли смысл сказанного, хотя немногие разделяли оптимизм Тулайкова.
Россия три года катилась в пропасть, захлебываясь в крови. Промышленные предприятия больше простаивали, чем работали – то из-за нехватки топлива, то из-за отсутствия сырья, то из-за того, что «несознательные» рабочие отказывались работать, требуя хлеба. Временные трудности с поставками продовольствия давно уже стали постоянными. Крестьяне не хотели отдавать даром собранный урожай, а когда его отбирали, зерно нельзя было вывезти из-за разрухи на транспорте. В одних местах для паровозов не было топлива; в других топливо скапливалось в избытке, но паровозы были неисправны; в третьих местах не хватало вагонов; в четвертых составы задерживали несознательные железнодорожники, тоже требовавшие хлеба; в пятых пути были перерезаны армиями белых генералов или казачьих атаманов. Что такое разруха на транспорте, сидевшие в зале испытали на себе, когда правдами и неправдами добирались в Саратов на съезд.
О том, как именно они добирались, дает представление письмо профессора Жегалова. Поехав в Саратов с группой сотрудников Селекционной станции Петровки, он писал жене Вере Владимировне: «Едем со скоростью 15 верст в час; до Саратова будем тащиться 2½ суток. В нашем распоряжении ½ вагона III класса, сидим по 2–3 человека на длинной лавке. Ночью все спали; пока удавалось отстаивать места от посторонних публик, тем более что у одного из едущих нашелся вагонный ключ. Получили по 2 селедки, конфеты и хлеб. Селедки пойдут на обмен, т. к. я решительно запротестовал против разведения грязи в вагоне. Пангало сидит со мной, не переставая болтает и собирается изобразить сумасшедшего, если будет подсаживаться посторонняя публика. Неприятно, что часть окон забита решетками, точно в арестантском вагоне, а часть просто досками. Я, впрочем, устроился хорошо, еду с Лорхом, Говоровым, Пангало и Игониным. Наши дамы в особом отделении» [132].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: