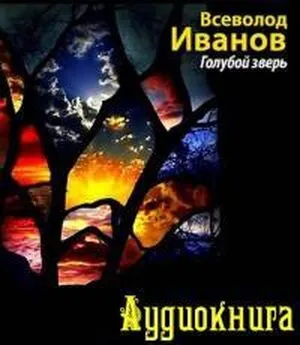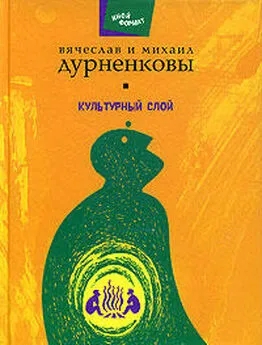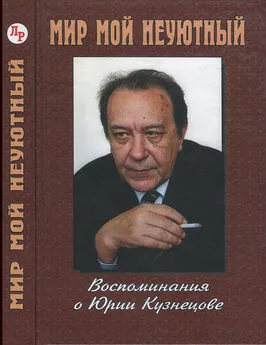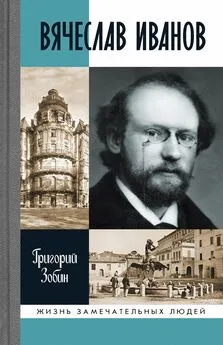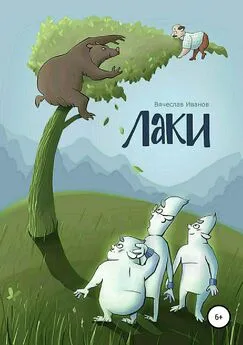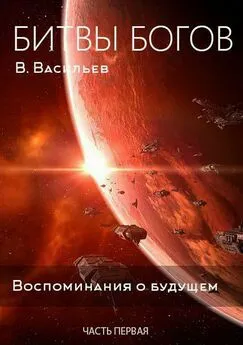Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания)
- Название:Голубой зверь (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Иванов - Голубой зверь (Воспоминания) краткое содержание
Здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит.
Голубой зверь (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда мне было шесть лет, я заболел, меня не просто уложили, а привязали (за руки и за ноги) к постели, и очень надолго (считалось, что это — костный туберкулез, оттого начальное школьное образование у меня было домашним, болезнь спасла меня от счастливого детства советских школьников). Возле моей кровати стала вырастать гора книг, с каждым месяцем менявшаяся. Что и о чем читать, выяснялось из разговоров с отцом. Он сам читал очень много и быстро, эту черту я у него перенял. В своем эссе в сборнике «Всеволод Иванов — писатель и человек» я писал уже особо о широких научных интересах отца, предопределивших мои ранние занятия. Приведу здесь только один пример.
Отец увлекался чтением популярных книг английского астрофизика Джинса, как и многие наши близкие знакомые, среди них Борис Пастернак, обсуждавший со мной в последние годы своей жизни замечание Джинса о разреженности материи и роли пустоты в мире, и философ Валентин Фердинандович Асмус, в моем детстве много со мной возившийся (он, например, одолжил мне на лето свой телескоп). Отец и мне давал читать «Движение миров» и «Вселенную вокруг нас». В разговорах со мной он не раз возвращался к поразившей его мысли Джинса о значимости центра Галактики. Только в недавние годы подтвердилось, что в самом деле это одно из основных свойств Галактик: в их центрах сосредоточена масса незримого для нас темного вещества. Об этих новейших открытиях я читаю как о продолжении моей беседы с отцом почти шестидесятилетней давности. После разговоров с отцом и В. Ф. Асмусом астрономия и связанные с ней проблемы космических полетов и внеземных цивилизаций стали очень меня занимать, я читал Циолковского и книгу Перельмана о межпланетных путешествиях даже с большим интересом, чем «Аэлиту». Случайно сохранилась книжка о жизни на Марсе (тема, ставшая настолько популярной, что ее высмеивали эстрадники). Там на каждой странице есть сделанные мной в десятилетнем возрасте заметки о том, что так бурно продолжает обсуждаться в связи с результатами работы «Викингов».
Когда мне уже разрешили двигаться, я проводил большую часть времени среди отцовских книг и неплохо их знал. Брат, обозлившись, как-то назвал меня «книжной крысой». Даже естественные для парня воинственные интересы (еще на Нащокинском наш сосед Матэ Залка, будущий генерал Лукач из Интернациональной бригады в Испании, научил меня стрелять из револьвера тайком от моей мамы, с ужасом потом от него узнавшей о милитаристских успехах пятилетнего сына) претворились в чтение справочника военно-морских судов (я знал наизусть водоизмещение каждого линкора) и многочисленных трактатов по военному делу, прежде всего Клаузевица и Шлиффена. Меня увлекала идея «Канн», то есть окружения войск противника, оттого я хорошо понял стратегический замысел Жукова, читая в газетах о Сталинградском сражении и удивляясь тому, как он переиграл немецких генералов, не увидевших классическую шахматную позицию, подробно проанализированную в их же первоклассных учебниках (кстати, шахматистом я был очень плохим, проиграл множество партий В. Шилову, будущему собирателю записей голосов русских поэтов, который терпеливо приходил играть со мной, пока я болел). «Войну и мир» я впервые читал, сверяя рассказ о наполеоновских войнах с картой боевых действий.
С отцовскими книгами связаны не только годы детских радостей по поводу недетского чтения. Из-за них пришло и ощущение большой потери, непрочности и хрупкости нашей культуры и нашего знания. Значительная часть библиотеки (в том числе собрание книг по истории православной церкви, связанное с работой отца над романом «Кремль») сгорела во время войны на даче в Переделкине в Городке писателей. Дача была занята нашими военными, штабная девица включила электроприбор (утюг, наверно) и уехала в Москву. Когда мы вернулись из эвакуации весной 1943 года, на месте большой сожженной дачи на кирпичах фундамента еще валялись обгоревшие кожаные переплеты многих старинных русских изданий (у отца была большая их коллекция).
С тех пор пожар библиотеки, повторение древней Александрийской катастрофы, преследует меня как врубелевский демон, как образ апокалиптического будущего. Когда ждешь несчастий, они случаются. Я очень любил библиотеку Академии наук в Ленинграде, всегда в ней занимался, приезжая в этот город, для меня многие годы воплощавший вечно к себе манящее совершенство (разумеется, не в архитектуре здания библиотеки, достаточно уродливого). Особенно мне памятно лето, когда в Ленинграде происходила очередная Международная встреча ассириологов, отмеченная докладом Шмандт-Бессера, замечательной исследовательницы абстрактных символических фигурок, на заре древневосточной цивилизации применявшихся для учета: по ее мысли, из них произошло письмо. В перерывах между заседаниями я занимался токарскими текстами VIII в. после P. X. из Китайского Туркестана (в их языке обнаружено свидетельство самых далеких миграций индоевропейцев на Восток, отчего я ими давно заинтересовался). Из изумительного собрания бывшего Азиатского музея на Дворцовой набережной, где в Институте востоковедения хранятся еще неизданные буддийские токарские тексты (впервые их нашел сто лет назад русский консул в Кашгаре Петровский, а потом несколько специальных экспедиций), я приходил в библиотеку Академии наук и читал старые журналы, позволявшие мне понять, как — с трудом и ошибками — делались первые попытки дешифровки этих текстов. Давно не было чувства настолько полного погружения в самый ход научного познания. А следующий раз я приехал в Ленинградский университет оппонентом на защите диссертации об этрусских надписях, над толкованием которых я бьюсь уже несколько десятилетий. Не зная о пожаре в библиотеке, я оказался в ее здании, когда оно еще дымилось. Я вдохнул в себя этот чад и горький запах, сразу напомнивший переделкинские обгорелые переплеты. Оттого когда я в первый раз читал по-итальянски «Имя розы» Умберто Эко и потом перечитывал русский перевод, к журнальной публикации которого писал предисловие, сцена пожара в библиотеке была мне особенно тягостна. Во мне нет пиромании моего покойного друга Андрея Тарковского, норовившего в каждом фильме что-нибудь сжечь: если не человека, то корову или, по меньшей мере, дом. Представление об огне, пожирающем книгу, из самых для меня мучительных. Насколько практичнее был предмет моих многолетних занятий — клинописная древневосточная глиняная книга, от огня только укреплявшаяся. При мне приезжий ассириолог убеждал сотрудников Пушкинского музея изобразительных искусств полизать одну из хранящихся там во множестве драгоценных староассирийских глиняных табличек, чтобы убедиться, сколько в ней соли. Рядом с музеем сделали водный бассейн, влажность повысилась, таблички могут разрушиться. По словам ассириолога, спасти их может только пожар (если не делать специальных печей для обжига, как в Британском музее).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: