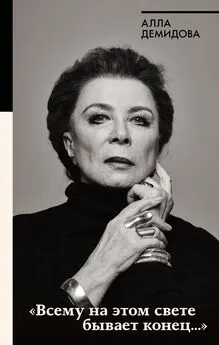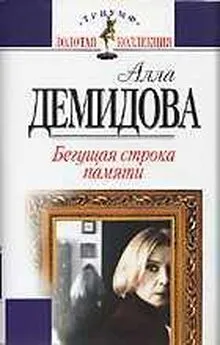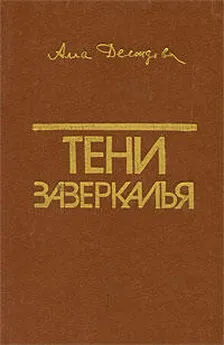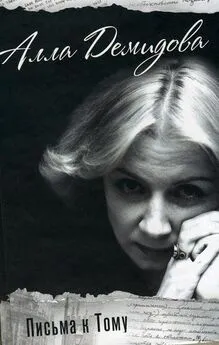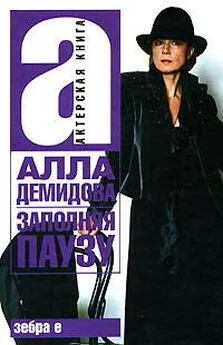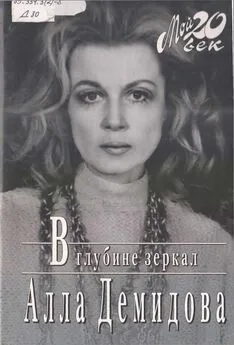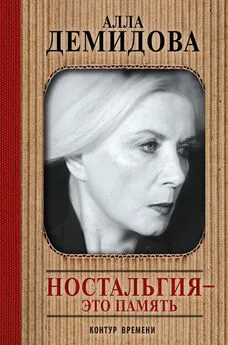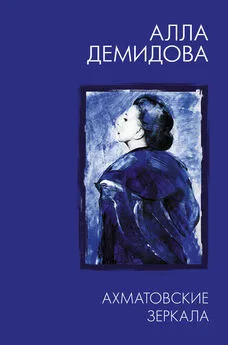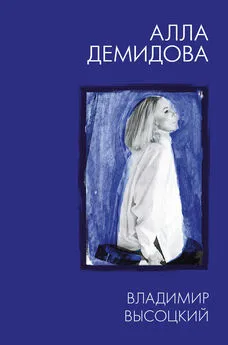Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…»
- Название:«Всему на этом свете бывает конец…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982435-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Демидова - «Всему на этом свете бывает конец…» краткое содержание
То, что показал Эфрос, заставляло людей по-новому взглянуть на Россию, на современное общество, на себя самого. Теперь этот спектакль во всех репетиционных подробностях и своем сценическом завершении можно увидеть и почувствовать со страниц книги. А вот как этого добился автор – тайна большого артиста.
«Всему на этом свете бывает конец…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У меня ассоциативная память, и я сразу же вспомнила, что в «Чайке» Аркадина говорит, как хорошо ее принимали в Харькове. И Лопахин в «Вишневом саде» тоже говорит, что ему надо ехать в пятом часу утра в Харьков. Фирс тоже вспоминает, что сушеную вишню возили в Харьков.
Это Зощенко, по-моему, в своей «Голубой книге» среди рассказов вставлял «мелкий случай из личной жизни».
У меня это тоже вошло в привычку. Поэтому опять прошу прощения у читателя, если я вспомню что-нибудь, не впрямую относящееся к «Вишневому саду».
Тогда же Эфрос говорил, что пьеса «Вишневый сад» много ставилась, что осталась легенда о спектакле раннего Художественного театра, что существует некоторый трафарет и что его надо разрушить, но это будет очень сложно, что в пьесе нет определенной идеи, что там действуют очень странные люди. На фоне клоунских разговоров происходит что-то для них страшное – продажа вишневого сада. Люди понимают, что над ними висит какая-то опасность, но они беспечно об этом не думают. И, главное, надо иметь в виду, что в «Вишневом саде» сочетание опасности и беспечности.
ЭФРОС. «Представьте себе – летит какой-то снаряд, мы знаем об этом, знаем, что он должен упасть и что это будет смертельно для нас, знаем даже, когда он упадет, но ничего не делаем против этого снаряда, не пытаемся спастись, а занимаемся каждый день самыми обычными вещами, как если бы об этом снаряде никто не знал. Вот и у Чехова люди милы, чудаковаты, беспечны, но ничего не могут сделать против опасности. Мне кажется, пьеса звучит сегодня очень интересно.
Она неоднозначна, конечно, в ней много других мотивов, но эта идея присутствует всегда, во всех сценах, во всех взаимоотношениях людей. И если сделать это на сцене не буквально, а символически, то тогда все человеческие странности, клоунские выходки и смешки приобретут совершенно другое значение».
Эфрос говорил, что это очень хорошая мысль – поставить Чехова именно на Таганке, в театре, где привычный Чехов кажется немыслимым, где всегда обнаженная сцена, голые кирпичи, а артисты по-брехтовски «показывают своих героев». Сказал, что попросит Левенталя сделать очень красивую декорацию, которой на Таганке еще не было.
ЭФРОС. «Может быть, верно, что истину надо искать только в контрастах. Комедию Гоголя надо ставить трагически, тогда она будет смешна . Брехта надо ставить „по-чеховски“, без насмешливого брехтовского тона. Кстати, Брехт на Таганке был в свое время поставлен по-русски , оттого, может быть, так заиграл. А „Вишневый сад“ надо ставить в театре, где меньше всего знают толк в „чеховском тоне“. Может быть, такое наше время – по протоптанной дорожке не придешь никуда?»
Сказал, что он сейчас вынужден завершить работу во МХАТе, что у нас первые черновые репетиции будет проводить его ассистент Александр Вилькин и что сам Эфрос только раз в неделю будет приходить к нам смотреть наработанное и давать задание на будущее, но что после премьеры во МХАТе он целиком наш.
На доске приказов театра было вывешено распределение ролей. По традиции нашего театра на одну и ту же роль назначалось по нескольку человек:
Раневская– Демидова, Богина
Аня– Чуб, Комаровская, Прудникова
Петя Трофимов– Золотухин, Холмогоров, Филатов
Варя– Жукова, Селютина
Гаев– Штернберг, Хмельницкий
Лопахин– Высоцкий, Иванов, Шаповалов
Симеонов-Пищик– Колокольников, Антипов
Шарлотта– Полицеймако, Ульянова, Додина
Епиходов– Дыховичный, Джабраилов
Дуняша– Сидоренко
Фирс– Ронинсон
Яша– Шуляковский
Прохожий– Королев
А позже Эфрос напишет в своих воспоминаниях: «Демидова – Раневская и Высоцкий – Лопахин – это теоретически уже хорошо. А еще пригласить оформить спектакль не Боровского, чья эстетика насквозь „таганковская“, а Левенталя, да-да, оперного Левенталя, пускай он придумает что-то именно на Таганке ».
Высоцкий в конце января 1975 года на три месяца уехал во Францию, но перед распределением ролей Эфрос говорил с ним, со мной и с Золотухиным о «Вишневом саде», советовался насчет распределения – он мало знал наших актеров. Но роли в конце концов распределял и утверждал Любимов. Во всяком случае, Эфрос не настаивал на втором составе ролей.
И мы начали работать.
Во-первых, что за пьеса?
В сентябре 1903 года Чехов пишет в письме о «Вишневом саде»: «Пьесу я почти кончил, надо бы переписывать, мешает недуг, а диктовать не могу».
Конечно, у него не было, как у Толстого, Софьи Андреевны, которая 17 раз переписывала его «Войну и мир». 17 раз! От руки. «Вы подумайте!» – сказал бы Симеонов-Пищик.
«После „Вишневого сада“ я перестану писать как прежде», – говорил Чехов. Он уже был смертельно болен, но не спешит ставить последнюю точку в пьесе, несмотря на бесчисленные телеграммы от Станиславского, который ждет эту новую пьесу.
Рассказывают, что Чехов так привыкал к людям, о которых писал, что не хотел с ними расставаться. И потом, момент завершения работы ощущается последующей пустотой. Бунин, например, писал о страхе, который наступал, когда ставилась последняя точка. Конец ощущался как кончина. Но Чехова пугало даже не завершение работы, а понимание, что «Вишневый сад» – это его последняя пьеса. Конец и завершение работы над этой пьесой ассоциировались у него со своим концом жизни. И как его персонажи в «Вишневом саде» оттягивают решение расставания с садом, так и Чехов оттягивал писать в пьесе «конец». Он как бы поощрял все отсрочки – внешние и внутренние, потому что все это оттягивало надвигающуюся катастрофу конца. Но Чехов не спешит не только из-за болезни, он понимает, что эта пьеса особенная – это итог его жизни. Вернее – записывание личного опыта болезни и умирания.
Личный опыт через творчество, то есть личный опыт, смешанный с фантазией, есть у каждого творческого человека. В течение жизни, я думаю, у писателя, актера, режиссера, – у всех, кто в своих фантазиях конструировал новые образы, – все эти жизни, конечно, оставляют след в душе.
Когда Чехов писал свою последнюю пьесу, все персонажи «Вишневого сада» уже давно жили у него в голове. И мелькали то в письмах, то в ранних рассказах. В письмах к знакомым и родным можно встретить мысли, которые потом выскажет Лопахин или Петя Трофимов, или кто-нибудь другой из «Вишневого сада».
В рассказах Чехова тоже можно встретить знакомые персонажи из «Вишневого сада». Например, в рассказе «Невеста» – это, конечно, Аня из «Вишневого сада», когда она, покинув семью, живет дальше.
Станиславский в своей системе советовал актерам писать биографию персонажа, которого играешь, то есть дофантазировать прошлое и будущее. Войдя в роль, я могла всегда рассказать, как бы мой тот или иной персонаж поступал бы в моем настоящем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: