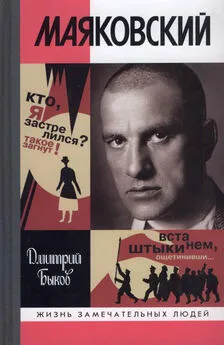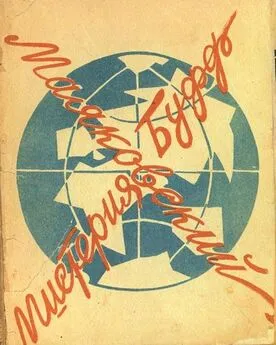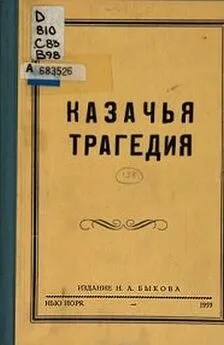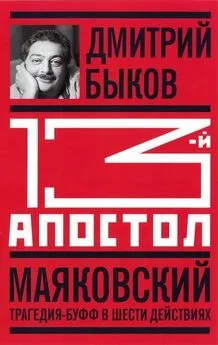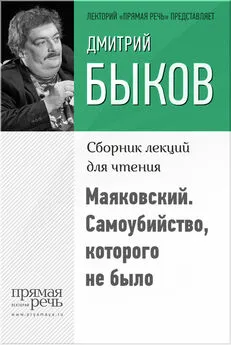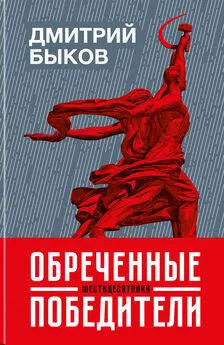Дмитрий Быков - Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях
- Название:Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03887-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях краткое содержание
Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.
Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, — образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.
[Адаптировано для AlReader]
Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очень плох финал. Он страшно словесен и жидок. Конечно, артист очень хорошо взбирается в ложу <���…>. А теперь, когда соседняя ложа заполняется советскими барышнями, то публика совсем сбивается с толку. Все разговоры непонятны и неприятны. Несколько лиц обратилось ко мне с вопросами, почему рабочие говорят барышням: «Мы будем вас делать, а вы нас питать», — какую черту будущего строя хотел отметить этим автор? <���…> Никакой новой страны не видно и ею не пахнет. Наш старый новый «Интернационал» с новыми словами Маяковского дела спасти не может, и пьеса кончается довольно уныло. <���…> И режисер подчеркнул этот недостаток, не давши даже того шествия вещей и даже той музыки, звона и грома, которыми сопровождается соединение очнувшегося труда с отдающейся ему материей. Здесь я не могу не отметить, что музыка гнуснейшая». Далее достается отрывкам из «Травиаты» — черти пели «Мы че-е-ерти, мы че-е-ерти…» на мотив «Налейте, налейте бокалы полней!».
Даже с добавлением необходимого финального комплимента, — дескать, «Мистерия» со всеми ее ошибками в десять раз выше таировского «Ромео и Джульетты», — рецензия выходит глумливая, особенно насчет «соединения очнувшегося труда с отдающейся ему материей»: умел приложить не хуже Маяка. Проблема в ином: все эти упреки следует адресовать уж никак не автору, потому что они относятся не к изображающей революцию «Мистерии», а к самому объекту изображения. Никакие «семь пар нечистых» русской революции не делали, и жить после нее они стали хуже, и власть досталась не им, а новому классу, по формулировке Джиласа; поэтому рай представлялся Маяковскому чистой абстракцией, царством изобилия и бесконфликтного потребления: «Скушно у вас, ох и скушно!» Но написать это прямее Луначарский, понятное дело, не мог — хотя и так проговорился о полной несостоятельности «мистериальной» футурологии. Будущее у Маяковского всегда было стерильно и абстрактно, и никогда в нем не было места ему самому и людям, похожим на него.
В 1918–1921 годах (позже — никогда, что делает честь его уму) у Маяковского периодически возникали иллюзии насчет того, что прежнее искусство будет упразднено, а футуризм объявят единственно революционным. В этом духе написан «Приказ по армии искусств», который вызвал у Луначарского весьма желчную реакцию.
Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
В будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща.
Это мало — построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осоловелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времен
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!
Напечатано это было в «Искусстве коммуны» — газете отдела ИЗО при Наркомпросе. Луначарский как глава наркомата не остался равнодушен к манифесту футуристов и несколько раз довольно резко окоротил их претензии на монополию в искусстве. В статье «Об отделе изобразительных искусств» (опубликована посмертно) он писал: «Дух конкуренции, царившей на буржуазном художественном рынке, стремление выделиться, привлечь к себе внимание, ажиотаж на художественной бирже очень дурно отзывались на этих лихорадочных поисках, принося сюда элемент кривляния, а порою даже шарлатанства.
Пролетариат же и наиболее интеллигентная часть крестьянства никаких этапов европейского и российского искусства не переживали и находятся совсем в другом пункте развития. Скажу определенно: пролетариату и крестьянству сейчас в тех грандиозных переживаниях, которые переполняют его душу, в искусстве важнее что, а не как.
Пролетариат и крестьянство возвращаются к тому благотворному и верному взгляду в искусстве, что оно есть род громовой и прекрасной человеческой речи, способ великой агитации путем возбуждения чувств.
Из этого не следует, чтобы рабочий класс и крестьянство, вообще большая народная публика в России, не сумели различить прекрасных форм и были бы к ним равнодушны. Искусство только тогда является этой священной речью, когда оно есть подлинное искусство. <���…> Но для не искушенных всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая ее только в смысле отвлечения от ненужных деталей.
Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упирающегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм в декоративном и монументальном роде».
Первая жена Луначарского Анна Алексеевна, передавая для полной публикации статью «Ложка противоядия» (первая ее половина была напечатана в «Искусстве коммуны», вторую газета самовольно отрезала), сообщила, что эту статью нарком написал после разговора с Лениным, обеспокоенным нигилистически-ниспровергательскими тенденциями в газете Наркомпроса. Впрочем, думается, взгляды Луначарского на ситуацию вполне совпадали с ленинскими — разве что он был чуть более терпим к авангарду. «Ложка» была преподнесена к обеду 29 декабря 1918 года. В напечатанной ее части говорилось резко и недвусмысленно: «Не говоря уже о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми, — они и на деле проявили себя во многом хорошими организаторами, и я жду самых лучших результатов от организованных по широкому плану Свободных худож. мастерских и многочисленных районных и провинциальных школ.
Но было бы бедой, если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя государственной художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: