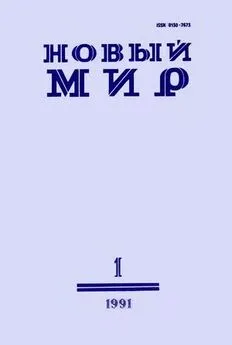Сергей Аверинцев - «Были очи острее точимой косы…»
- Название:«Были очи острее точимой косы…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - «Были очи острее точимой косы…» краткое содержание
«Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден…»
«Были очи острее точимой косы…» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мне в голову не приходит ограждать Вячеслава Иванова или тем паче символизм в целом от любых нареканий. Нарекания возможны, и притом самые разные — от эстетических до, скажем, религиозно-аскетологических. Но уже в фантазии Ахматовой образ Иванова далеко отошел от реальности; достаточно вспомнить, что она возлагала на него ответственность за все версии, оценки и репутации, имеющие хождение в русском зарубежье. Свое отношение к «соблазнителю», «ловцу человеков» Ахматова, как совершенно верно отмечает М. Поливанов в предисловии ко «Второй книге», эффективно передала Надежде Яковлевне. (М. Поливанов цитирует ахматовские слова в передаче А. Наймана: «У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло».) А в уме Надежды Яковлевны оно уже беспрепятственно дозревало почти до абсолютного, абстрактного неприятия, поскольку не наталкивалось в отличие от Ахматовой на опыт личного общения (не считать же того, что отец однажды взял ее на лекцию Вяч. Иванова, по собственным ее словам, «не то о Скрябине, не то о Метнере», а Осип Эмильевич в ее сопровождении нанес Вяч. Иванову визит в Баку).
Из остроумного замечания О. Мандельштама об особой роли символистов в формировании у большевиков представлений о том, кого из деятелей старой культуры стоит беречь, развивается тенденция возлагать на Вяч. Иванова личную ответственность за все несправедливости, испытанные Мандельштамом и Ахматовой от нового режима. Кстати, замечу, что символистам была в довольно высокой степени свойственна способность творить «каноны», то есть производить отбор и делать его результаты импонирующими вне их собственного круга. Мы мало отдаем себе отчет, что именно они раз и навсегда утвердили высокий статус, например, для Тютчева; да ведь и Достоевского окончательно канонизировала именно символистская культура. Можно нападать на их «учительство», на «ловлю душ», но без него торжество варварства в нашей стране было куда более полным и необратимым. Моральное зло я вижу только в самом положении, когда культуре предлагается выживать в особой резервации; любое распределение пропусков в эту резервацию, по символистским ли спискам или другим, будет несправедливостью. Но положение это было создано, как известно, отнюдь не символистами. А затем и резервацию упразднили за ненадобностью. [1] Как кажется, и Мандельштаму и Ахматовой не повезло по одной простой причине. Те, кто был старше их и стяжал себе имя в литературе задолго до революции, воспринимались как ходячие памятники культуры, по отношению к которым возможен был до поры до времени подход как бы музейный. Их «несозвучность» меньше раздражала, поскольку преклонный возраст и устоявшаяся репутация служили для их прегрешений смягчающими обстоятельствами. Им было заведомо поздно перековываться; а если они делали шаг навстречу новой идеологии, работал эффект контраста. Те, кто, как их ровесник Пастернак, не успел сделаться известным прежде революционной поры, могли восприниматься как поэты «советские», ибо пришедшие в литературу вместе с Октябрем (для чего принадлежность к футуристической компании годилась, разумеется, больше, чем к акмеистической). Хуже всего было — уже сложиться и стать известными перед революцией, но еще не обрести статуса маститых. Мальчишка и девчонка, но старорежимные мальчишка и девчонка; и то и другое — несообразно надолго, для Мандельштама — пожизненно. «Другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот» — как сказано в «Четвертой прозе». Само собой разумеется, что это обстоятельство не было единственным, даже главным; но сбрасывать его со счетов не надо. Во всяком случае, оно болезненнее, обиднее любой чисто идеологической травли, потому что никто не поймет и не посочувствует: если для новых хозяев жизни ты старорежимен, то для старой интеллигенции — несолиден.
Не буду обсуждать формулировки, безоговорочно отлучающие Вяч. Иванова, да и символистов вообще, от христианства. Литературная критика не должна брать полномочий церковного суда; вполне достаточно сознаться, что поэты не богословы и, увы, не святые («И меньше всего благодать», — сказала о себе Ахматова); если, однако, они исповедуют себя христианами, приходится признавать их таковыми.
И на этом остановимся. С самыми главными словами в обеих книгах не поспоришь. Там, где говорится не о символизме, а о совсем, совсем других материях, слова очень весомы, ибо пропитаны опытом как биографическим, так и внутренним. Там не только каждое слово, а каждое движение интонации — свидетельство.
Вот ведь как обстоит дело. Библейский, освященный древностью образ труб, от которых рассыпаются стены Иерихона, в применении к двум-трем голосам, зазвучавшим в свой час среди нашей жизни — солженицынскому, шаламовскому и этому, — может показаться неумным, неуместным. Пафоса мы нынче боимся, обжегшись на молоке, дуем на воду; может, так оно и лучше. Как ни странно, однако, самая трезвая, самая фактическая истина состоит в том, что стены Иерихона все-таки пали. Материализация этого события приходит с запозданием: это сегодня мы из газет знаем, что кусочек стены возможно пощупать, даже унести на память — достаточно съездить в Берлин. Однако в невидимой глубине все совершилось гораздо раньше: когда «Архипелаг ГУЛАГ», и «Колымские рассказы», и обе книги Надежды Яковлевны были написаны, когда мы их читали. А нынче мы переживаем эпилог.
Пусть читатель простит меня за то, что я, увлекшись разговором о самих произведениях, лишь скороговоркой скажу о труде издателей и комментаторов. Примечания к первой книге выполнены А. А. Морозовым, человеком, который с беспримерным бескорыстием отдал мандельштамоведению всю свою жизнь. Это настоящая исследовательская работа. Им же составлены приложения: подборка стихотворений О. Мандельштама, необходимых для понимания текста Надежды Яковлевны, и прекрасный указатель имен. Послесловие, написанное Н. Панченко, уже упоминалось. Необходимо отметить краткое, умное и красивое предисловие М. К. Поливанова ко «Второй книге» и его же примечания к ней.
Сергей АВЕРИНЦЕВ.Примечания
1
Как кажется, и Мандельштаму и Ахматовой не повезло по одной простой причине. Те, кто был старше их и стяжал себе имя в литературе задолго до революции, воспринимались как ходячие памятники культуры, по отношению к которым возможен был до поры до времени подход как бы музейный. Их «несозвучность» меньше раздражала, поскольку преклонный возраст и устоявшаяся репутация служили для их прегрешений смягчающими обстоятельствами. Им было заведомо поздно перековываться; а если они делали шаг навстречу новой идеологии, работал эффект контраста. Те, кто, как их ровесник Пастернак, не успел сделаться известным прежде революционной поры, могли восприниматься как поэты «советские», ибо пришедшие в литературу вместе с Октябрем (для чего принадлежность к футуристической компании годилась, разумеется, больше, чем к акмеистической). Хуже всего было — уже сложиться и стать известными перед революцией, но еще не обрести статуса маститых. Мальчишка и девчонка, но старорежимные мальчишка и девчонка; и то и другое — несообразно надолго, для Мандельштама — пожизненно. «Другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот» — как сказано в «Четвертой прозе». Само собой разумеется, что это обстоятельство не было единственным, даже главным; но сбрасывать его со счетов не надо. Во всяком случае, оно болезненнее, обиднее любой чисто идеологической травли, потому что никто не поймет и не посочувствует: если для новых хозяев жизни ты старорежимен, то для старой интеллигенции — несолиден.
Интервал:
Закладка: