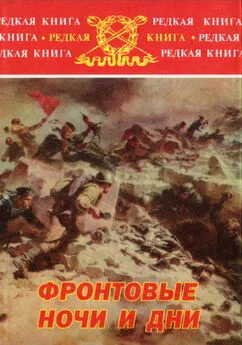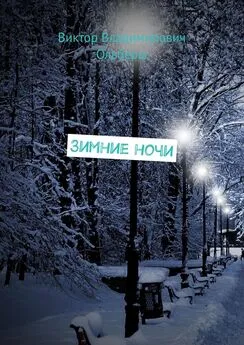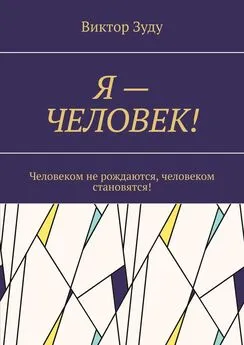Виктор Сытин - Человек из ночи
- Название:Человек из ночи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Сытин - Человек из ночи краткое содержание
В сборник «Человек из ночи» входят воспоминания о встречах с К. Э. Циолковским, о работе с А. Н. Несмеяновым, С. П. Королевым, Л. А. Куликом, с А. П. Довженко, Д. А. Поликарповым, П. А. Бляхиным и многими другими интересными и известными людьми.
Поездки за рубеж дали возможность писателю познакомиться с замечательными представителями искусства и культуры и политическими деятелями других стран. О них В. Сытин тоже рассказывает в своей книге.
Человек из ночи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— С добрым утром! — произнес он, приблизившись. — Сейчас вскипятим чайку. Ну, а где судаки и сомы?
Мы смущенно переглянулись и побежали к берегу. Донки оказались пустыми. Лишь на одной висел на крючке, растопырив колючки, крошечный ершик. Потом мы пили не морковный, а настоящий чай с настоящим сахаром! Кусочки рафинада казались нам немыслимо сладкими и вкусными по сравнению с самодельной патокой из свеклы.
— Вот что, мои молодые друзья, — сказал Борис Михайлович, когда с завтраком было покончено, — рыба, как видно, клевать не хочет. Пойдемте со мной. Поможете мне собирать образцы для коллекции.
И вот мы лазаем по кручам Галичьей горы над Доном, в диких зарослях трав и кустарников. Солнце палит нещадно. Зловредные слепни атакуют поминутно. Колючки царапают ноги и руки. Но все это ерунда, не стоит на это обращать внимания! Ведь мы помогаем собирать и укладывать между листами серой оберточной бумаги образцы для коллекции. Ведь мы участники таинственного и, несомненно, прекрасного дела науки!
Насвистывая что-то, Борис Михайлович увлечен поиском этих «образцов». То и дело он нагибается и, аккуратно подкапывая длинной лопаточкой корни, вынимает из почвы растение.
— Это тоже реликт, — говорит он. — Положите отдельно… — Или называет растение по-латыни и, отряхнув землю с его корней, поднимает и любуется им: — Какой отличный экземпляр! — И рассказывает нам о растениях.
Теперь мы знаем, что это не обыкновенная глухая крапива, или душица, или колокольчик. Это «реликт» или даже «эндемик».
…Много тысячелетий назад великое обледенение охватило почти всю Европейскую Россию. Гигантский ледовый панцирь сковал ее земли вплоть до южных областей. В верховьях Дона тоже кругом были нескончаемые льды и снега круглый год, много-много столетий. И только этот обрывистый берег Дона, горбом возвышавшийся над мертвой замерзшей равниной, — Галичья гора — остался островом жизни. Здесь продолжали бороться за существование нескончаемую вереницу лет десятки видов растений, насекомых и простейших животных. И они победили. Жизнь победила холодный, безразличный лед. До нашего времени остались расти на Галичьей горе те растения, которые выдержали невероятной суровости испытания. Это и есть «реликты». А среди них есть и такие, которые произрастают только здесь, — это «эндемики».
— Посмотрите, мои молодые друзья, — говорит Борис Михайлович, показывая маленькое, хилое растеньице с трехпалыми листьями. — Посмотрите внимательно на эту лапчатку. Какая она нежная. Беззащитная. А вот поди ж ты, преодолела, превозмогла. Живет. Размножается. Но только здесь, на Галичьей горе… Другие виды «реликтов» сохранились еще в некоторых местах по границе великого обледенения. В Курской губернии есть, например, такое место. Там я тоже собрал хорошую коллекцию. Но вот горе — человек наступает на природу, на растительный мир, и это наступление, думаю, будет похуже нашествия ледников, причем во всемирном масштабе! Вон посмотрите — там на бугре ходят козы. Это же самые страшные враги кустарников. Где они пасутся, мало что растет. К чему я это говорю? А к тому, что Галичью гору и другие такие удивительные места надо охранять. Объявлять заповедными. Слыхали, может быть, Совнарком издал декрет об охране природы?..
После полудня мы забрались в одну из пещер, чтобы отдохнуть и поесть. Летучие мыши маленькими меховыми мешочками висели в глубине грота, за тысячелетия промытого подпочвенными водами в серой скале. Рыжие лишайники лепились на, казалось бы, совсем гладких каменных его стенах. Тоже сила жизни! Ключ — ручеек, который создал эту пещеру, еще не иссяк, и мы смогли наполнить кристальной водой котелок и вскипятить чай. После чаепития Борис Михайлович что-то загрустил, глядя темными своими глазами в широкую даль задонской равнины. Мне показалось, что ему очень не хочется покидать Галичью гору (он сказал, что после отдыха должен двинуться в обратный путь). Неразговорчивым и задумчивым был он и когда мы спустились вниз, к нашему биваку, и, забрав удочки, припрятанные в зарослях тальника, начали прощаться.
Пожимая руки, как взрослым, он пожелал нам доброго пути и сказал странную фразу, совсем невпопад:
— А сумерки все же неотвратимы…
Лишь годы спустя эти его слова стали мне понятны. А тогда я вопросительно взглянул на него. Но он не стал пояснять непонятное, приподнял матерчатую шляпу-панамку, повернулся и зашагал по берегу Дона в сторону Задонска.
Усталые до чертиков, пыльные и потные, под вечер дошли мы до дома. Почти всю дорогу молчавший брат, открывая калитку, вдруг сказал мне почему-то почти шепотом:
— Ты как хочешь. А я биологом, ботаником…
…Брат не стал ботаником. Он стал инженером и впоследствии одним из тех, кто создавал первые атомные реакторы. А я через три года выдержал экстерном экзамен на биологический факультет Воронежского университета. Трудно было, и вот, наконец, у меня в руках студенческий билет. Серая книжечка, на корочке которой замазано «Юрьевский» и от руки выведено: «Воронежский» [1] Дерптский, или Юрьевский, университет в годы первой мировой войны был переведен в Воронеж.
.
Далее на корочке написано: «Биологический факультет, 1 курс». Итак, я, а не брат должен стать биологом, ботаником! И сегодня — первая лекция для всех неофитов всех пяти факультетов университета: биологического, физмата, химического, исторического и медицинского. Пестрая наша была компания! Девчата в кожанках и вязаных кофточках и темных юбках, часто в красных косынках, многие стриженные «под мальчика». Ребята — то совсем юные еще, вроде меня, то уже в годах, в старых гимнастерках и френчах со следами петлиц на воротничках, с ранними морщинками у глаз, бывшие красноармейцы и командиры недавно отшумевшей гражданской войны. Один из таких воинов сел рядом со мной. Он явно «кавказский человек», черноволосый, кареглазый. На его гимнастерке редкий в те времена орден Красного Знамени. Он протягивает мне руку:
— Вакилянц. Был чоновцем, стал студентом. Вот, брат, какое дело. А ты что грызть будешь?
— Ботанику, — отвечаю я, внезапно решив стать исследователем жизни растений.
— Нэплохо… Может, и мне тоже? Окончу курс. Поеду домой, на Севан. Знаешь Севан? Озеро в горах. «Разным сортом травка», как поют, собирать буду…
…Из боковой двери актового зала появился невысокий старик. Седые волосы топорщатся на его крупной голове в разные стороны. Под кустистыми бровями даже через очки видны голубые, яркие, веселые глаза. У старика пухлые, румяные губы. Одет он в косоворотку, на которую накинут серый парусиновый пиджак.
Старик быстро, пожалуй даже стремительно, подходит к кафедре и поднимает руку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


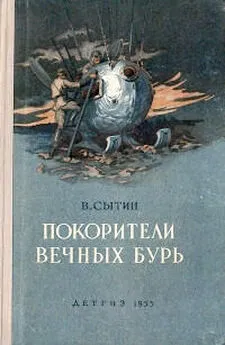
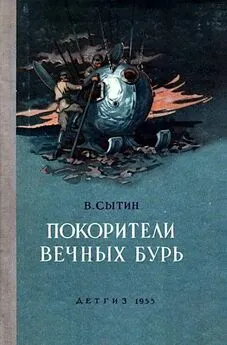
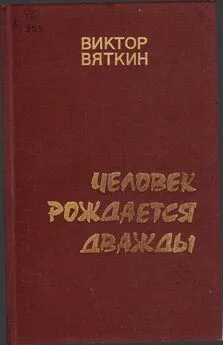
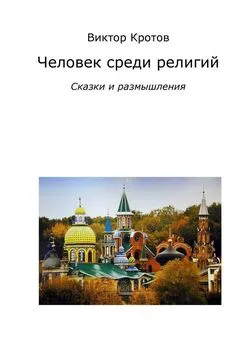
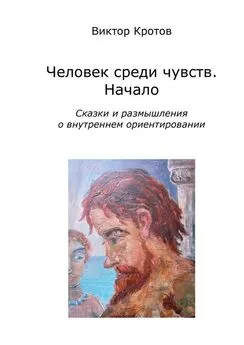
![Виктор Тельпугов - Те дни и ночи, те рассветы... [Авторский сборник]](/books/1083077/viktor-telpugov-te-dni-i-nochi-te-rassvety-av.webp)