Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова
- Название:Четыре я Константина Симонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова краткое содержание
Четыре я Константина Симонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В одном он уже тогда должен был с ней согласиться— нельзя, глупо их судить. Дальше пошли собственные мысли: должно же у нас хватать ума не делать из этих двурушников мучеников. Создавать им ореол борцов за идею.
В «Комсомолке» в те дни появилась статья Аркадия Сахнина о некоем Тарсисе. Тоже литератор и даже член Союза писателей, возомнивший себя на склоне лет правдолюбцем и забросавший зарубежные издательства своими, на грани шизофрении, рассказиками, по сравнению с которыми писания Терца и Аржака — просто шедевры.
Так вот нашел же Сахнин вместе с редакцией выход — предлагает не судить этого слабоумного, а просто взять и выслать его за границу, туда, где его согласятся принять... К.М. даже черкнул Сахнину несколько строк: «Вы написали в "Комсомолке" отличную, умную и верную статью. В самом деле — пусть едет...»
Через несколько дней в газете появилось сообщение, что Тарсис выслан в Грецию. Эта заметка окончательно определила позицию К.М. по отношению к Синявскому и Даниэлю, и это принесло ему чувство облегчения, потому что со всех сторон уже напирали на него, ждали, как он поступит. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Увы, он каждый день убеждался в неодолимой справедливости этого афоризма. Теперь он, по крайней мере, не кривя душой, мог сказать то, что думал — и о Синявском с Даниэлем. Он согласился выступить по этому поводу на московском собрании писателей, которое проходило накануне уже объявленного суда. К.М. здесь не жалел слов осуждения по адресу двух злополучных сочинителей. Тем больше оснований у него было возражать против суда над ними: надо просто-напросто выпроводить их из страны, как Тарсиса, из общества людей, которое они не уважают и мелко ненавидят. По сути они с Тарсисом — три сапога пара, оттенки только в литературной квалификации.
Многие ему аплодировали. На фоне сурового тюремного заключения, которое грозило обвиняемым, предложение казалось и обоснованным, и гуманным.
Когда суд все-таки состоялся и закончился суровым приговором, он направил письмо в секретариат ССП, Маркову. Напомнив о своем выступлении перед московскими писателями, а также о том, что он, разумеется, подал там голос за исключение Синявского из ССП, он предложил, чтобы правление писательского союза «ходатайствовало о замене вынесенного судом приговора на иной, более соответствующий характеру и тяжести совершенных деяний».
Свое предложение «не сажать, а выслать», изложенное в документе, предназначенном для сугубо внутреннего пользования, он тут же подкрепил интервью для АПН: «Я придерживался этого взгляда до суда над ними и продолжаю придерживаться его и сейчас». Посылая текст в АПН, сопроводил его письмом председателю агентства, редактору «Комсомолки» военных лет Борису Буркову: «Все, что я сказал, несколько раз тщательно обдумано мною и способно принести пользу именно в этом виде, без всяких вариаций или, наоборот, смягчений». Поставил для верности дату — 26 февраля 1966.
Что говорить, он тогда чувствовал себя чуть ли не героем. Пошел против течения. Ему не приходило в голову тогда, как видно, и «Комсомолке», что высылка из страны, тем более лишение гражданства — наказание ничуть не менее страшное, чем тюрьма, лагерь. Он впервые услышит об этом от Ларисы, к которой явится с отчетом о своих деяниях и тайной надеждой заслужить похвалу. То же самое, будто сговорившись, скажет ему потом и Нина Павловна в ответ на его сакраментальный вопрос: «Ну, что я еще плохого сделал?»
Когда он задавал этот вопрос, все вокруг, все его «боярско-еврейское подворье», как он в шутку называл своих друзей и близких, знали: К.М. дошел до ручки.
Так оно и было. Вместо ожидаемого одобрения он услышал от Ларисы нечто прямо противоположное. Слова были те же по сути, что во время их первого разговора по этому поводу.
Что же касается сакраментального его вопроса, то на него, по бытовавшему среди его окружения поверью, ответить, не отводя глаз, могла только одна Нина Павловна. И она ответила.
Нет, это не был монолог. Он мог, конечно, представить себе Нину Павловну произносящей монологи. Да еще какие! Темперамента ей было не занимать. На этот раз она обошлась несколькими фразами, к тому же не кряду сказанными. Но каждая отдавалась в нем так, словно это удар молотка по гвоздю, вбиваемому в тело. Но не был он Христом, скорее уж благочестивым разбойником рядом с ним, вдруг прозревшим всю бездну своих прегрешений.
Нина Павловна всегда была для него глазком, стеклышком, сквозь которое прозревал он существование другого, почти невообразимого, но еще недавно до жути реального мира, в котором она провела недобрую треть своей жизни.
Ей рассказывали, что суд превратился в своеобразную словесную дуэль. Это был диспут профессионалов-филологов с юристами, которые в этой сфере чувствовали себя, как коровы на льду. Им не в чем было уличать подсудимых — ведь они подтвердили, что эти книги действительно написаны ими. Только не признавали в этом никакого преступления.
— К.М., — вдруг взорвалась Нина Павловна, — но разве это не фантастика! Ведь вам же тоже не дают напечатать ваши «Сто дней». Что говорят, как мордуют вас. И еще неизвестно, сколько будут мордовать. Вас, с вашими регалиями, вашим именем и репутацией! Вы говорите, что это во славу подвига народного, а они, — тут она показала движением головы куда-то вбок и наверх, — твердят, что это — поношение. Выходит, они считают, что и вы против советской власти, что ли?
— Говорят, и Синявский заявил судье, что у него с советской властью чисто стилистические разногласия, — заключила, словно извиняясь этой шуткой за свою вспышку. — А судья ему в ответ: «Может быть, через двадцать лет так оно и окажется, а сейчас вы — преступник, и мы вас будем судить...»
— Вы откиньте-ка, К.М., двадцать лет. Что мы получим?
Он откинул. Он откинул их даже не от сегодняшнего дня, а от 1956 года, года XX съезда. Получился 1936 страшный год.
Судья, наверное, и сам не представлял, какой приговор он произнес этим своим доводом. И кому — себе!..
Тридцать шестой, пятьдесят шестой — годы действий двух его Я из не написанной еще пьесы. Между ними лежала пропасть. Он не мог не задумываться о том, каким будет его следующее Я в году, скажем, 1976. И как будут люди судить о человеке, который осуждает тех, кто в сущности делает то же самое, что и он.
Уйдя глубоко в себя, он уже не знал, кто это сказал — он сам или Нина Павловна. Очнулся, встряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Да нет, как можно сравнивать. Он выступает с открытым забралом, «иду на вы», он готов перед любым судом, вплоть до божьего, отстаивать каждое свое слово. А эти встают в позу, потому что их поймали за руку. Он публично ведет серьезный разговор о больных вещах, а они компрометируют саму возможность этого своим фиглярством, ерничаньем. Это все он тоже, естественно, сказал про себя, и ввиду того, что уже ни помочь, ни изменить случившееся ни в ту, ни в иную сторону уже было невозможно, просто похоронил в душе, — надеясь, что навсегда, — само воспоминание об этом эпизоде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
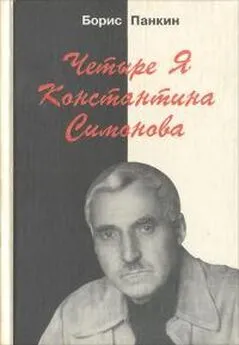


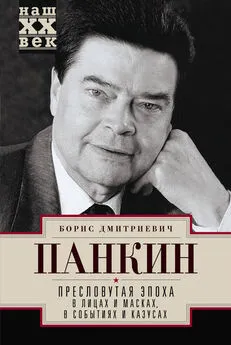
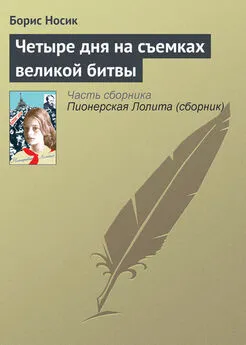
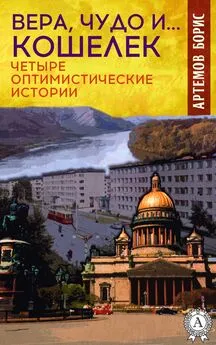
![Борис Орешкин - Четыре дня с Ильей Муромцем [повести]](/books/1098163/boris-oreshkin-chetyre-dnya-s-ilej-muromcem-povesti.webp)
