Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова
- Название:Четыре я Константина Симонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова краткое содержание
Четыре я Константина Симонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все было вроде правильно в этом ответе — и насчет душевного здоровья, и насчет отношения к критике, даже если она с пересолом... Но почему-то это письмо он в отличие от многих других не продиктовал стенографистке, а написал от руки... Написав, перечитал. И перечитав, решил не отправлять. Если уж дошло до таких бодряческих самохарактеристик, значит дело пахнет керосином. Проще говоря, дрянь дело. Симптом куда более неприятный, чем сама эта читательская встреча, действительно не похожая на те, что у него были еще совсем недавно. И, положа руку на сердце, он не выглядел на встрече столь уж неуязвимым. Стрелы в него летели весьма острые, а некоторые даже, может, были и ядовитые.
Что-то большее, чем обыкновенная студенческая бравада, в чем он пытался уверить своего корреспондента, послышалось ему в вопросах, репликах и даже выкриках молодежи.
Он привык к открытой полемике с читателями. Как правило, на встречах его критиковали степенные, традиционно мыслящие люди. Они порицали его за нарушение всякого рода канонов, всяческих границ, и излюбленной мишенью такого рода аудиторий была, конечно же, его любовная лирика, объектом же порой бестактных, порою просто вызывающих вопросов — его отношения с Валей. Он отвечал без секундной заминки — о праве поэта на самовыражение, о неприкасаемости интимных отношений, о святости, неповторимости каждой, отдельно взятой «любови», о необходимости уважать эту неповторимость. Чувствовал, что многие реплики звучали в его устах как откровение и вызов, но не смущался. Он сокрушал ортодоксов и неизменно срывал аплодисменты и восторженные возгласы у самой отчаянной части аудитории, которая все еще зачитывалась его военной лирикой, цитируя ее наизусть: «какой была ты сонной-сонной, вскочив с кровати босиком...», и придирчиво, требовательно допрашивала, почему он стал писать меньше стихов.
Теперь, наверное, впервые ощутил он, стрелы полетели с другой стороны. Он вдруг увидел себя отнесенным к какому-то совсем иному, чуждому ему стану.
Было это на самом деле или только мерещилось — кто-то хочет изолировать его от потока новой жизни, который с каждым днем набирал силу. Создать впечатление, будто все, что происходит — противно воле и желанию Симонова, будто в нынешнем ходе событий заложено нечто такое, что противоречит его представлениям, его убеждениям, его «так верую». Порою казалось — невозможно бороться с этим наваждением ни вокруг, ни внутри себя. Сражаться можно с чем-то реальным, материализовавшимся в людях, поступках, заявлениях, в статьях и речах, наконец. Как бороться с тем, что обступает тебя невидимо и неслышимо, словно колдовские огни на болоте, словно адановские вилисы на кладбище.
Нелепо было бы все связывать с тем «выбросом» Хрущева. В конце концов, о нем знали только Сурков да десяток чиновников-перестраховщиков, на которых он никогда не обращал внимание. Способ отринуть от себя эту нежданную напасть, эту обескураживающую напраслину был только один — идти тем же курсом, которым шел всегда, только еще более уверенно. Из Красноярска вернулась Нина Павловна с мужем. Заранее о своем приезде не сообщила, но в Москве позвонила прямо с вокзала. И прямо с вокзала он привез их к себе домой. С мужем Нины Павловны он встретился, как с родным человеком. Гости, даже Нина Павловна, после столь долгой разлуки сначала чувствовали себя неловко, скованно. Постепенно отходили, оттаивали... Зазвучали, как сказочная мюнхаузеновская свирель, принесенная с мороза в тепло, слова благодарности, признательности. Гордон, Юз, как его звала Нина Павловна, все твердил, что, мол, никогда не забудет всего, что сделал К.М. для его жены. Нина Павловна молча переводила сияющий взор с мужа на вновь обретенного шефа. Он же, гудя и картавя, стремился перевести разговор на будущее. О том, где жить, куда обращаться, кому писать.
Бывало, что и раньше, при Сталине, люди, в том числе и его знакомые, возвращались оттуда, но так вот близко, у себя дома, он никого из них до сих пор не видел. Он ловил себя на том, что ему хочется коснуться Юза рукой, потрогать на ощупь бурую, залоснившуюся ткань его потерявшего форму пиджака, следить за движением его исхудавших, иссиненных вздувшимися венами рук, вылезавших из коротких рукавов рубашки.
Ему не в чем было укорить себя по отношению к этим людям. И то, о чем Гордон благодарно говорил вслух, а Нина Павловна молчаливо подтверждала, все было правда. Не будь его поддержки, а потом постоянной и самой разнообразной помощи, она не смогла бы поехать в Красноярск и выжить там одна, на положении «декабристки». Без нее, наверняка, погиб бы, не выдержал своей последней ссылки и Юз.
Раньше каждое такое возвращение воспринималось им как закономерное и неизбежное исправление случайной, пусть и жесточайшей несправедливости. Теперь впервые подумалось о том, что закономерность, дикая и до сих пор не поддающаяся объяснению, была в другом — в непрестанной и неутомимой работе той силы, которая по какому-то одной ей ведомому принципу выхватывала людей и метила их тюремной решеткой и колючей проволокой... Что же все-таки это был за принцип? Ему и раньше приходило в голову, что и он мог бы быть схвачен и унесен этой силой. Не на это ли совсем недавно намекал Сурков, цитируя письма в ЦК? Но лишь теперь где-то в глубинах подсознания мелькнуло что-то вроде сожаления, что этого все же не случилось. Сейчас он предпочел бы видеть себя не начинающим седеть смуглым бодрячком в уютной душегрейке и мягких заграничных брюках, хозяином уютного и обжитого жилья, а таким, как Юз, странником, еще и сейчас не знающим, куда же ему идти из этой теплой и гостеприимной квартиры...
Самым ненавистным, самым презренным всегда было для него слово «ташкентец», но сейчас, вопреки, казалось бы, всякому здравому смыслу, ташкентцем оказывался он...
Стоило только повториться, мелькнуть в очередной раз такой мысли, как все в нем, столь же искренне и негодующе, восставало против. И контрдоводы казались ничуть не менее убедительными, чем доводы.
Нет, он не мог, никак не мог признать все случившееся с Юзом как закономерность, характеристику эпохи, пусть все очевиднее становилось, что таких, как он — тысячи и тысячи.
Миллионы — поправит Константина Михайловича К.М. годами позже. Да, миллионы, согласится он. Но это — дьявольская воля Берии и его предшественников, которым изуверством, коварством и авантюризмом удалось подчинить себе волю Сталина.
Час, когда Константин Михайлович услышал по радио, что с Берией покончено, стал для него праздником, тогда же ему понятна стала и вспышка Хрущева, которая чуть не стоила ему поста редактора «Литературки», места в руководстве Союза писателей и самой репутации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
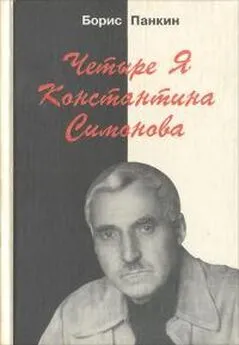


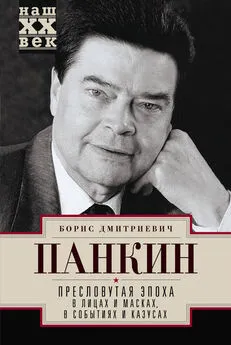
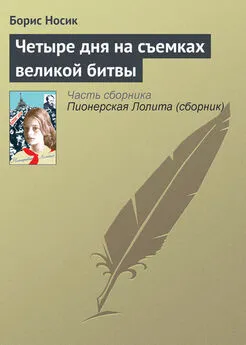
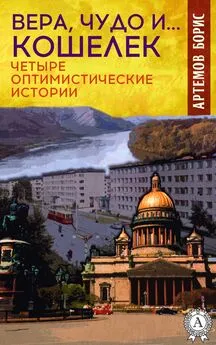
![Борис Орешкин - Четыре дня с Ильей Муромцем [повести]](/books/1098163/boris-oreshkin-chetyre-dnya-s-ilej-muromcem-povesti.webp)
