Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова
- Название:Четыре я Константина Симонова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Панкин - Четыре я Константина Симонова краткое содержание
Четыре я Константина Симонова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слово предоставили Зощенко. Надо было уметь так заворожить этот враждебно настроенный зал. Поначалу показалось, что он просто крутит, несолидно и неправдиво. Я, мол, возражал не против того, что сказано в постановлениях, а против того, что приписал мне Жданов. Я вовсе не отрицал огульно критику в свой адрес, а только отметил, как и в 46 году в письме Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, что не все они таковы. Я не согласен с тем, что я не советский писатель... Потом мало-помалу, с подкупающей скромностью и простодушием повел речь так, что вообще все, что говорилось о нем, его поведении и о его творчестве — это сплошной бред и выдумка, плод чьего-то воспаленного воображения... И из Ленинграда-то он в войну не хотел уезжать, его заставили, чуть ли не силком вывезли... И в редколлегию «Звезды» потом чуть ли не так же, силком затащили. Алма-Ата и Ташкент? Их точно и совсем не существовало. Что же прикрываться орденами прошлой войны, если от этой ты сам себя изолировал. Выводила из равновесия поза оскорбленного в лучших чувствах человека, который, брезгливо отводя одно обвинение за другим, как бы возвращал их собравшимся. «Что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться, что я мещанин, пошляк, подонок, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?»
Произнося эти свои «вы», он, как показалось Симонову, чаще, чем прежде, поворачивался лицом к президиуму, а в президиуме — к нему, Симонову.
— Этого требуете вы? — оратор с надрывом повторил свой вопрос, и зал замер, затих заворожено.
Тот самый зал, который только что, в начале выступления Зощенко, то и дело отвечал на его эскапады слитным гулом толпы, охваченной азартом погони — и тут все симпатии Константина Михайловича были безраздельно на стороне оратора, этот же самый зал вдруг погрузился в такую невыносимую тишину, от которой пронзительно зазвенело в ушах. Константин Михайлович почти физически ощутил, как все взоры обратились к нему. Теперь ему предстояло вступить в единоборство с этим залом, который вдруг каким-то непонятным образом из «чудища обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» вдруг превратился в сгусток волновой энергии, чье поглощение и излучение обладало неожиданной для него избирательной силой.
Оратор, от которого привычно ждали в заученных фразах покаяний, по сути бросил вызов своим уже состоявшимся и предполагаемым обвинителям.
Зал напрягся вновь, когда Симонов из президиума шагнул к трибуне, еще не зная, с чего и какими словами начнет. С удивлением прислушиваясь к самому себе, обнаружил, что начал вовсе не с Зощенко, а с того, что наболело, что носилось в воздухе и чему вся эта новая история с Зощенко была лишь еще одной иллюстрацией.
«Все-таки, друзья, самое интересное на земле — это хорошие, героические, настоящие люди. У них самый могучий характер, самые сильные страсти, самые горячие слова. Любые, даже архиколоритные мерзавцы должны бледнеть и теряться, когда на авансцену выходит настоящий, взятый из жизни положительный герой».
Об этом ему давно хотелось сказать — полно, во весь голос, с вызовом, как манифест. Все не удавалось, не получалось — до этой минуты.
— Вот пришла, — продолжал он, — на одной читательской конференции записка — упрекают писателей, что они забыли об указании партии развивать критику. Справедливое напоминание. На эту записку отвечать следует так же недвусмысленно, как она написана. Призыв показать теневые стороны жизни, дурных людей-хапуг, приспособленцев, трусов — важен и актуален. Но это — не самодовлеющая задача, и нельзя забывать о цели, о том, ради чего это делается. Сила положительных идеалов художника должна стать в произведении во весь рост. Мы должны чувствовать, как художник содрогается от ненависти и презрения к той дряни, которую он вынужден, да, вынужден изображать, ибо удовольствием это не назовешь, вынужден выводить за ушко да на солнышко, в нашем еще несовершенном обществе. Выводить, чтобы уничтожать, а не коллекционировать.
— А у нас порою объективизм протаскивается под лозунгом борьбы за правду жизни. И это называют почему-то искренностью.
Здесь он совсем близко подошел к тому, что особенно задело его в последних публикациях, к тому шуму, который поднялся вокруг статьи Померанцева, напечатанной Твардовским в «Новом мире».
— Начинают говорить об искренности, как о некоем самодовлеющем требовании. Как будто бы хотят подменить этим само понятие партийности в литературе, само понятие метода социалистического реализма...
И наконец вырвалось наружу — то, что болело так долго, с каждым днем все сильнее:
— Когда это понятие искренности выдвигается как некое открытие, то я считаю для себя глубоко оскорбительной такую постановку вопроса на тридцать восьмом году Советской власти... Когда об искренности говорят как о некоем нововведении... Что же, мы были неискренни, когда писали романы и стихи о первых пятилетках, о строительстве, о Комсомольске-на-Амуре?! Что, мы были неискренни, когда в войну работали и писали все, начиная с листовок и кончая романами и пьесами?
А что, прикажете мне стыдиться очерков, написанных в 41 году, в лихолетье? Что, мы нетипичные вещи показывали? Это были типичные вещи, типичные люди. Что же, мне теперь раскаиваться, что я или другие, я в данном случае говорю о тысячах военных корреспондентов, лакировали действительность? Почему Померанцев нас должен учить искренности? У него психология ташкентца.
Отсюда, от понятия «ташкентец», уже совсем было просто и естественно перекинуть мостик к Зощенко. Он чувствовал, как, вылезая из трясины и зыбкости, ступает на твердую почву разговора о войне и военной литературе.
— Когда человек сидит в Алма-Ате и в журнале выходит его повесть «Перед восходом солнца»... В разгар войны, в которой погибают миллионы жизней, во время блокады Ленинграда печатается гробокопательская вещь... Нужно было понять это и почувствовать, а не писать такую вещь в 43 году, во время Курской дуги...
Никто не требует от человека выходить на трибуну и бить себя в грудь, кричать — я подонок, — но ты пойми глубину своей вины, и что, может, самые резкие слова, адресованные тебе, еще недостаточны... Он тут говорил, как будто его убивали и убьют, невесть что с ним произойдет, а я могу напомнить, что через одиннадцать месяцев после того, как его критиковали резко в партийном решении, я помню это очень хорошо, я был тогда редактором «Нового мира», через одиннадцать месяцев поверили Зощенко, через одиннадцать месяцев были напечатаны его «Партизанские рассказы» в крупнейшем журнале страхи... Так это или не так?
Видит Бог, он не хотел специально напоминать о своей роли, но тут дело принципа, сидевшие в зале не знали или забыли уже эту историю, помнят только критику. А Зощенко не напомнил...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
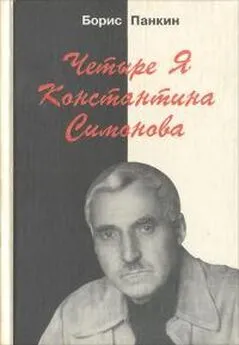


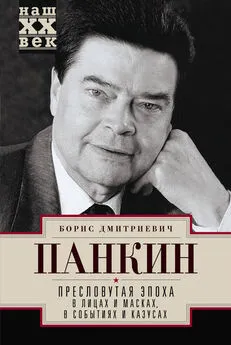
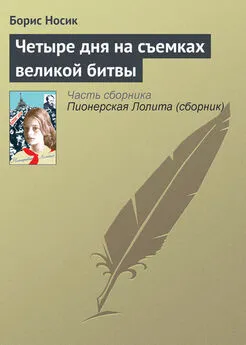
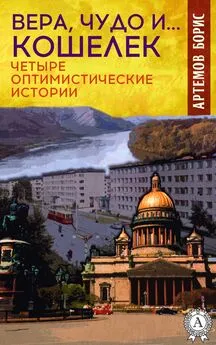
![Борис Орешкин - Четыре дня с Ильей Муромцем [повести]](/books/1098163/boris-oreshkin-chetyre-dnya-s-ilej-muromcem-povesti.webp)
