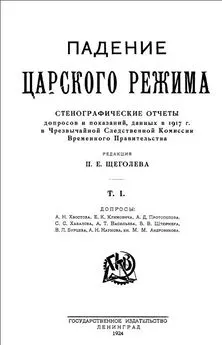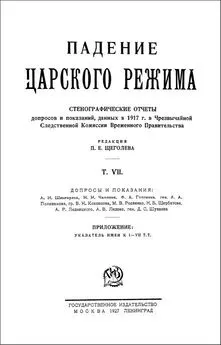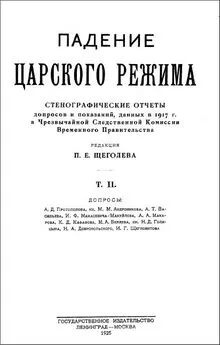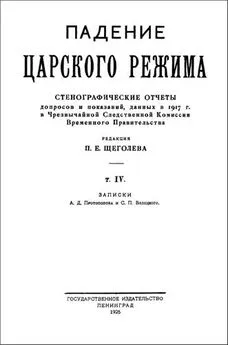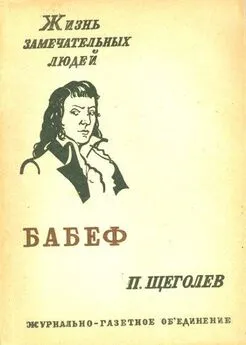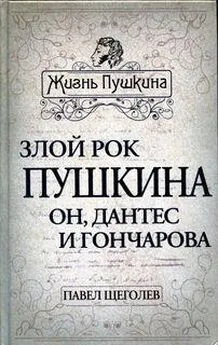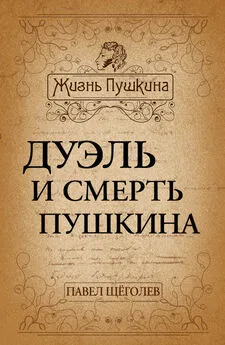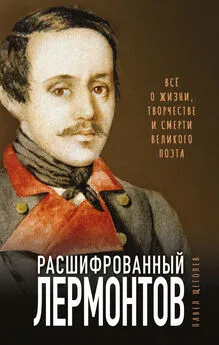Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Название:Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] краткое содержание
Вступительная статья и примечания Янины Леоновны Левкович.
Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мать до самой смерти питала к сестре самую нежную и, можно сказать, самую самоотверженную привязанность. Она инстинктивно подчинялась её властному влиянию и часто стушёвывалась перед ней, окружая её неустанной заботой и всячески ублажая её. Никогда не только слов упрёка, но даже и критики не сорвалось у неё с языка, а одному богу известно, сколько она выстрадала за неё, с каким христианским смирением она могла её простить!
Названная в честь этой тёти, сохраняя в памяти образец этой редкой любви, я не дерзнула бы коснуться болезненно-жгучего вопроса, если бы за последние годы толки о нём уже не проникли в печать [779].
Александра Николаевна принадлежала к многочисленной плеяде восторженных поклонниц поэта; совместная жизнь, увядавшая молодость, не пригретая любовью, незаметно для неё самой могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство. Вызвало ли оно в Пушкине кратковременную вспышку? Где оказался предел обоюдного увлечения? Эта неразгаданная тайна давно лежит под могильными плитами.
Знаю только одно, что, настойчиво расспрашивая нашу старую няню о былых событиях, я подметила в ней, при всей её редкой доброте, какое-то странное чувство к тёте. Что-то не договаривалось, чуялось не то осуждение, не то негодование. Когда я была ещё ребёнком и причуды и капризы тёти расстраивали мать, или, поддавшись беспричинному, неприязненному чувству к моему отцу, она старалась восстановить против него детей Пушкиных, — у преданной старушки невольно вырывалось: „Бога не боится Александра Николаевна! Накажет он её за чёрную неблагодарность к сестре! Мало ей прежних козней! В новой-то жизни — и то покою не даёт. Будь другая, небось не посмела бы. Так осадила бы её, что глаз перед ней не подняла бы! А наша-то ангельская душа всё стерпит, только огорчения от неё принимает… Мало что простила, — во всю жизнь не намекнула!“
Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью семейства, незадолго до её смерти, я добилась объяснения сохранившихся в памяти оговоров.
Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставила на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда камердинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, — это совпало с родами его жены — нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне:
— Как вы там ни объясняйте, это ваша воля, а по-моему — грешна была тётенька перед вашей маменькой!
Эта всем нам дорогая, чудная женщина была олицетворением исчезнувшего, с отменой крепостного права, типа преданных слуг, сливавшихся в единую плоть и кровь с своими господами; прямодушие и правдивость её вне всякого сомнения, но суждение её всё-таки могло бы сойти за плод людских сплетен, если бы другой, малоизвестный факт не придал особого веса её рассказу.
Сама Наталья Николаевна, беседуя однажды со старшей дочерью о последних минутах её отца, упомянула, что, благословив детей и прощаясь с близкими, он ответил необъяснённым отказом на просьбу Александры Николаевны допустить и её к смертному одру, и никакой последний привет не смягчил ей это суровое решение {346} . Она сама воздержалась от всяких комментариев, но мысль невольно стремится к красноречивому выводу.
Наконец, когда, много лет спустя, а именно в 1852 году, Александра Николаевна была помолвлена с австрийцем бароном Фризенгофом, за несколько времени до свадьбы она сильно волновалась, перешёптываясь с сестрою о важном и неизбежном разговоре, который мог иметь решающее значение в её судьбе. И на самом деле, — после продолжительной беседы с глазу на глаз с женихом она вышла успокоенная, но с заплаканным лицом, и с наблюдательностью подростков дети стали замечать, что с этого дня восторженные похвалы Пушкину сменились у барона резкими критическими отзывами.
Вот все скудные сведения, сохранившиеся в семье об этом мимолётном увлечении. Если я решилась приподнять завесу минувшего, то исключительно в виду важности для характеристики матери её постоянно проявлявшегося незлобия, — той сверхчеловеческой доброты и любви, которая проповедуется евангелием и так мало применяется в жизни, — любви, способной всё понять и всё простить».
Мы привели этот отрывок из воспоминаний А. П. Араповой без всяких сокращений, сохранив все её отступления и размышления, ибо контекст может облегчить правильное впечатление от её сообщения. Имели или не имели места факты, о которых рассказывает А. П. Арапова, психологически их появление в её рассказе понятно: рассказывая об отношениях своей матери к Дантесу, она лишь умножила бывший уже в нашем распоряжении обвинительный против Натальи Николаевны материал. Подчёркивая решительную невинность матери, А. П. Арапова не умолчала о состоявшемся накануне второго вызова на квартире у Идалии Полетики свидании Дантеса с Пушкиной. Чтобы оправдать поведение Натальи Николаевны, чтобы, так сказать, уравновесить грехи, потребовался рассказ о нарушении Пушкиным всяких супружеских обетов. Вообще А. П. Арапова не пощадила поэта, и история о его связи с Александриной лишь увенчала её воспоминания.
К приведённым данным об отношениях Пушкина к Александре Николаевне Гончаровой надо добавить ещё следующие указания, использованные отчасти и во введении.
Перечисляем решительно всё, чем мы располагаем по вопросу об отношениях Пушкина и А. Н. Гончаровой.
П. И. Бартенев записал рассказ Аркадия Осиповича Россет: «Тогда уже летом, 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса» («Русский архив», 1882, I, стр. 246).
Анна Николаевна Вульф 12 февраля 1836 года писала из Петербурга матери, П. А. Осиповой: «Ольга (сестра Пушкина) утверждает, что он (Пушкин) очень ухаживает за своей свояченицей Александриной» («Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 331).
А. И. Тургенев упоминает об Александрине в письмах своих — от 28 января 1837 года: «Пушкина привезли (после дуэли) домой; жена и сестра жены, Александрина, были уже в беспокойстве; но только одна Александрина знала о письме его к отцу Геккерена» — и от 29 января: «Жена подле него (умирающего Пушкина). Он беспрестанно берёт его (sic!) за руку. Александрина плачет, но ещё на ногах» (там же, вып. VI, стр. 50, 52). Цитируя фразу из первого письма, П. И. Бартенев дал следующее пояснение: «Показание замечательное. Умирающий Пушкин отдал княгине Вяземской нательный крест с цепочкой для передачи Александре Николаевне. Александра Николаевна была как бы хозяйкой в доме; она смотрела за детьми. В доме сестры своей Александра Николаевна оставалась до позднего брака с бароном Фризенгоф, от которого имела дочь-красавицу, вышедшую за принца Оттокара Ольденбургского. Барон Фризенгоф, венгерский помещик и чиновник австрийского посольства, первым браком женат был на Наталье Ивановне Соколовой, незаконной дочери И. А. Загряжского от какой-то простолюдинки. Эта вторая Наталья Ивановна была воспитана своею бездетною сестрой графиней де Местр» («Русский архив», 1908, III, 296).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)