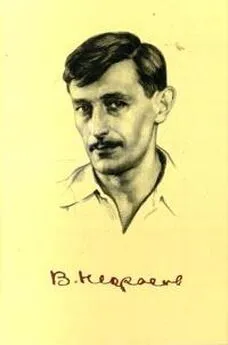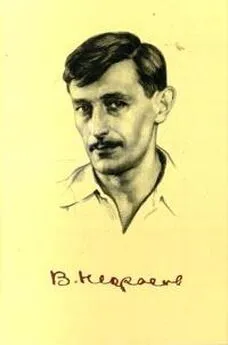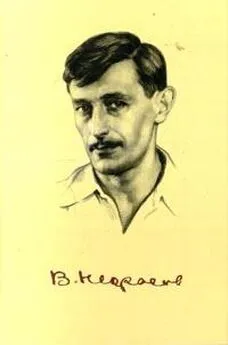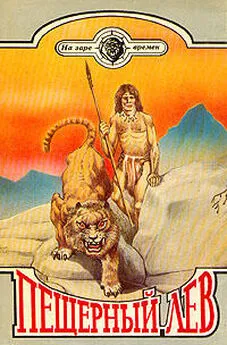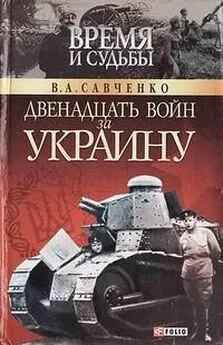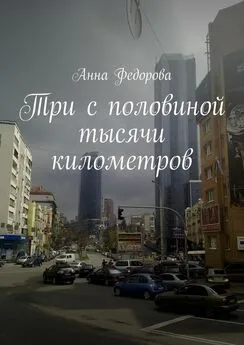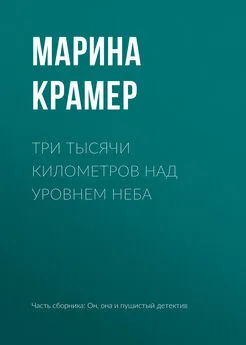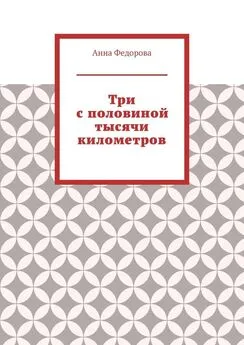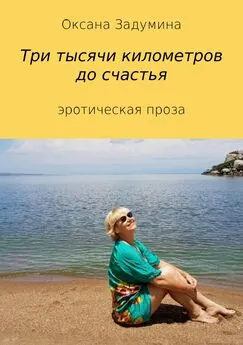Виктор Некрасов - За двенадцать тысяч километров
- Название:За двенадцать тысяч километров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1965
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Некрасов - За двенадцать тысяч километров краткое содержание
За двенадцать тысяч километров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Посылаю на Камчатку яблоки. Большие, красивые, одно к одному, не очень спелые, чтоб по дороге не испортились. Дома нашелся большой, десятикилограммовый ящик с дырочками (в свое время посылал фрукты из Крыма), и, взвалив его на плечо, иду в соседнее почтовое отделение.
Народу, слава богу, не много. Перекладываю яблоки скомканными газетами, чтоб не болтались, заполняю бланк и иду к старушке, которая упаковывает яблоки.
— Э-э, сынок, на Камчатку фрукты не принимаются.
— То есть как это не принимаются?
— Не принимаются. Не разрешено.
— Ничего не понимаю.
— Я тоже, — улыбается старушка. — Но не я придумала.
Я требую, чтобы мне объяснили, на каком основании. Старушка отсылает меня во-он к тому мужчине, заведующему.
Иду к тому мужчине.
— Не разрешается. На Камчатку, Сахалин, Магадан, Красноярский край посылки с фруктами не принимаются. Приказ министра.
— А в Ялту, в Сочи можно?
— В Ялту и Сочи можно, — без тени улыбки отвечает мужчина.
Возвращаюсь взбешенный к старушке. Хотелось порадовать друзей с Командоров, а тут тащи десять килограммов назад, домой. Идиотство!Старушка загадочно наклоняется ко мне:
— А ты знаешь что, сынок, сделай? Переложи в ящик без дырочек — и все. Кто там узнает, что у тебя внутри?
Милая старушка. Только сейчас замечаю, какое у нее симпатичное, доброе лицо.
— А еще лучше положи туда хвостик хрену. Или головку чеснока. Микробы убивает.
Ну до чего же милая старушка!
Я перегружаю яблоки в ящик без дырочек, старушка очень старательно забивает крышку. У нее это очень красиво и ловко получается.
— Артистку Тевелеву знаешь, певицу? Два раза в месяц посылочки сыну посылает. Он там, на этих самых Командорах. И всегда доходят. За неделю доходят. А то и за четыре-три дня, как там с самолетами удается. Только следующий раз обязательно хрену положи. Теперь вон в то окошко…
Я пытаюсь ей что-то сунуть.
— Что ты, что ты, сынок, не надо…
— Это за то, — говорю, — что гвоздей не жалели.
— А чего их жалеть? Посылка-то далеко идет, кому-то радость доставит. Чего же их жалеть.
Весь день после этого у меня был какой-то веселый, светлый.
Спасибо министру. Не издай он того приказа, я бы через две минуты забыл о существовании старушки.
«…И тут увидел девушку всю в рыжем — тонкий коричневый свитер, темно-каштановые брючки, и волосы рыжей волной, и притушенное потемками лицо…
…А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке, — свитер у нее черный, а брючки тоже черные, в тон льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке… есть в ней что-то змеино гибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать…
…Еще издали я увидел девушку в алой майке и синих рейтузах… Я прошел мимо девушки, этакой жгучей, как огонь, и колюче-гибкой, как рапира…»
О ком это идет речь? Кто эти змеино-колюче-гибкие девушки, привыкшие повелевать и властвовать? И где все это происходит? В Монте-Карло? Майами? Одна из них к тому же любит Альфреда де Мюссе, другая прекрасна, как царица Савская, как Клеопатра, Земфира… Кто они такие?
Не удивляйтесь — это работницы рыбозавода. И никакое это не Монте-Карло, а остров Шикотан, Южные Курилы… Вот так-то, Южные Курилы…
Спешу оговориться, сам я на острове Шикотан не был и с гибкими, как рапира, девушками познакомился в повести одного нашего писателя, напечатанной в журнале «Молодая гвардия» в конце шестьдесят третьего года. Прочитай я эту повесть до своей поездки на Камчатку — я обязательно сделал бы на обратном пути крюк и побывал бы на Южных Курилах: все-таки нечасто попадаются на рыбозаводе царицы Савские, увлекающиеся Альфредом Мюссе.
Те, которых я видел не на Курилах, правда, а на Камчатке, выглядели не слишком царственно. На них были грубые, топорщащиеся робы, резиновые фартуки, с ног до головы они были в рыбьей чешуе, руки красные, головы обмотаны платками. А кругом рыба, рыба, рыба… Отбирай ее, проталкивай по конвейеру, режь, опять отбирай, упаковывай в банки, заливай маслом, наклеивай на коробки этикетки…
Я смотрел на этих здоровых, крепких девушек с медными лицами, в своих робах и сапогах больше похожих на парней, и постеснялся спросить их, как относятся они к своему нелегкому труду. Но ответ я получил. Получил от одной из шикотанских Клеопатр, укладчицы рыбы по имени Муза. «Какое уж тут, с позволения сказать, творчество! — ответила она герою упомянутой выше повести, оказавшемуся менее стеснительным, чем я. — Но эта механическая работенка дает мне ту лишнюю копейку, за которую можно даже в четвертый раз сходить на „Девять дней одного года“, посмотреть Смоктуновского».
Я не уверен, что Муза предпочитает Смоктуновского Жану Маре (об этом дальше), как и в том, что она ходит в узеньких брючках, но то, что она больше любит ходить в кино, чем укладывать рыбу, — этому я верю. И не вижу ничего в этом зазорного.
И вот за эту-то прорвавшуюся вдруг в повести правду автору ее и досталось. «Работа для его героинь, — прочел я как-то в „Литгазете“, — остается еще механической, отупляющей, не вызывающей в них никаких творческих импульсов… А как сделать так, чтобы работа была не добыванием средств к жизни, а самой жизнью, полной, радостной?»
Укладывать рыбу в консервную банку — это не то же самое, что делать операцию человеку или даже морской свинке, строить дворец спорта или хотя бы железнодорожный пакгауз, чем варить сталь, вязать арматуру. Это — укладывание рыбы в консервную банку. Искать в этом занятии «творческих импульсов», считать «самой жизнью, полной, радостной», может только человек, никогда не укладывавший рыбу в консервную банку.
Не знаю, в какой уже раз я задаю себе вопрос: почему мы стараемся изображать людей не такими, какие они есть? Становятся ли они от этого лучше? И действительно ли это лучше? В старое время писатель назывался сочинителем, но нужно ли именно так сочинять?
Иногда говорят так: «Да, это еще нечасто встретишь, но мы к этому стремимся, в этом есть тенденция развития». Так рождались «Кубанские казаки».
Неправда убивает искусство. Она бывает разная — в желании увидеть то, чего нет, или не видеть то, что есть. Я не знаю, что хуже.
Однажды на какой-то читательской конференции, где я рассказывал о кинофильме «Солдаты», один не очень уж молодой человек набросился на картину, особенно на ее начало — сцены отступления.
— Что это? — сказал он. — Солдаты растерзаны, разуты, расхристаны… Никакого порядка, никакой дисциплины. Не армия, а шайка бандитов…
Я поинтересовался, приходилось ли ему воевать и, в частности, отступать?
— Еще как! От Харькова до самого Сталинграда. И не такое было… Но я не хочу об этом вспоминать. Понимаете, не хочу! Не хочу, чтоб мой сын видел, как драпал его отец. Надо, чтоб он уважал своего отца, уважал свою армию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: