Александр Галич - Я выбираю свободу
- Название:Я выбираю свободу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1991
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Галич - Я выбираю свободу краткое содержание
Я выбираю свободу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Лунный луч, как соль на топоре,
Стынет кадка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,—
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.
Стихи изумительные, но вот эта строчка «лунный луч, как соль на топоре», — вы вслушайтесь. Помнится, тогда еще в юности, она пронзила меня таинственностью, чудом увиденного, чудом сказанного, чудом сочетания этих, казалось бы, несочетаемых слов. Я вспомнил, когда-то в конце двадцатых годов моего дедушку как бывшего нэпмана сослали, но довольно милостиво сослали, в небольшой городок Данилов. Это примерно сто с лишним километров от Москвы. Вот летом приехали мы туда к нему жить. Я помню, как хозяина нашего дома пасечника Егора Жильцова вызвали в сельсовет. Пришел он из сельсовета хмурый, с лицом неугодливым, прошел по двору, вытащил зачем-то торчащий в корневище топор, поиграл им, перебросил с руки на руку и потом почему-то ударил им по кадке с дождевою водой. Потом ночью мне примерещился этот залитый соленой водою топор, когда лунный луч побежал из окна по полу и край комода перегородил его, и луч стал как будто топорищем. Но вовсе, поверьте мне, нет, вовсе не это бытовое воспоминание так пронзило меня в этих строчках.
Эти строчки есть образец великой поэзии, той поэзии, за которую всегда испытываешь необыкновенное чувство благодарности к человеку, сказавшему эти слова:
«Лунный луч, как соль на топоре…»
Вот недавно поэт, хм… поэт Евгений Долматовский написал стихи про Париж:
Иду, короткой трубочкой сипя,
Ничем не отличимый от француза.
И только повторяю про себя:
«Я — гражданин Советского Союза».
Ну право, какое ж чувство благодарности можно испытать к человеку, написавшему подобное.
И закончить это свое любительское рассуждение о поэзии и этот свой первый «День Благодарения» мне бы хотелось маленьким стихотворением, которое так и называется: «Благодарение».
Облетают листья в ноябре.
Треснет ветка, оборвется жила.
Но твержу, как прежде на заре:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Эк меня на век приворожило!
Что земля сурова и проста,
Что теплы кровавые рогожи,
И о тайне чайного листа,
И о правде свежего холста
Я, быть может, догадался б тоже.
Но когда проснешься на заре,
Вспомнится — и сразу нет покоя:
«Лунный луч, как соль на топоре».
Это ж надо, Господи, такое!
У микрофона Галич …
2 мая 76
Однажды в поезде, во время своих бесчисленных поездок, в ночном поезде я задал себе вопрос: а как нам, людям, живущим в невольном, в добровольном, а иногда не совсем добровольном изгнании, как нам относиться к той стране, где мы родились? И я подумал: с благодарностью. С благодарностью, потому что власть и Россия — это не одно и то же. Советская Россия — это просто бессмысленное сочетание слов. Мы родились в России, которая дала нам прекраснейший язык, которая подарила нам великолепные, удивительные мелодии, которая дала нам великих мудрецов, писателей, страстотерпцев. Мы должны быть благодарны своей стране, своей родине за воздух, за ее прекрасную природу, за ее прекрасный человеческий облик, удивительный человеческий облик… Мы, те, которые крестились уже в сознательном возрасте, не можем не быть благодарны России и за этот святой день. Мы помним ее, мы стремимся к ней, мы любим ее и мы благодарны ей. И это власть заставила нас уйти в изгнание, а не Россия, не родина, не та страна, которая живет у нас в сердце.
Сегодня я хочу рассказать вам о совсем удивительном благодарении — благодарении за горе. Может ли быть такое? Да вот, очевидно, может быть и такое. Часто приходится слышать, что советская интеллигенция в тридцатые годы растерялась, уступила свои позиции, не протестовала… А мне довелось быть свидетелем одного такого массового протеста русской интеллигенции. Я живой тому свидетель, и об этом мне хочется вам сегодня рассказать.
Было это в феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года, страшного года, когда уже начался массовый сталинский террор и когда, казалось бы, протестовать было решительно трудно. В феврале тысяча девятьсот тридцать шестого года вышло постановление партии и правительства о том, что закрывается Московский художественный театр Второй. Это был театр, в основу которого была положена первая студия МХАТа, студия, которой руководил такой великий мастер, как Евгений Багратионович Вахтангов, такие педагоги, как Сахновский, Марджанов и другие; студия, создавшая необыкновенно талантливый и чрезвычайно любимый именно московской интеллигенцией театр — МХАТ Второй. В этой студии расцвел гений (я не побоюсь сказать этого слова) такого актера, который, кстати, потом остался во время одной из гастрольных поездок за рубеж, — такого актера как Михаил Александрович Чехов. В этом театре была удивительная, прославленная плеяда актеров — Гиацинтова, Берсенев и многие, многие другие… Чебан, Азарин… Нет, всех не перечислишь, это было просто необыкновенное созвездие талантов, и театр этот, пожалуй, даже спорил с любовью москвичей к Малому театру, МХАТу Первому, потому что репертуар его был несколько своеобразен; театр выбирал именно сложные постановки, сложные пьесы для воплощения и был, пожалуй, как я уже сказал, действительно одним из самых любимых у московской интеллигенции театров.
И вот вышло это постановление партии и правительства. Причем постановление было сформулировано таким образом — это, пожалуй, черта всех постановлений партии и правительства, — что никто решительно не мог понять, почему и за что закрывают этот театр, почему его решили расформировать…
Утром было опубликовано постановление, а вечером шел спектакль… По странной иронии судьбы — бывает же в жизни такое — шел в этот вечер уже заранее объявленный спектакль, последний спектакль МХАТа Второго, пьеса французского драматурга Дюваля под названием «Мольба о жизни».
И вот мне, мальчишке-студийцу (я был первогодником-студийцем студии МХАТа, последней студии Константина Сергеевича Станиславского) удалось вместе с несколькими друзьями при помощи наших друзей в судии при Втором МХАТе пробиться в зал на этот последний спектакль.
Я точно помню, совершенно точно помню, какую-то абсолютно странную, необыкновенную атмосферу зрительного зала. Вероятно, актерам было очень трудно играть, потому что все реплики, обычно вызывающие в зале смех, смеха не вызывали. И сидели люди в удивительной тишине, которая иногда прерывалась чьим-нибудь громким всхлипыванием. И в антрактах тоже не болтали как обычно, не смеялись, не разглядывали туалеты друг друга, не толпились у буфета. Ходили молча, как на похоронах…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
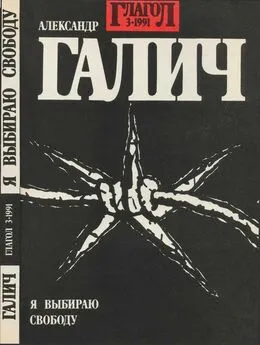

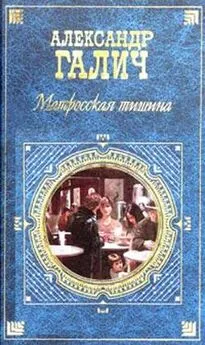
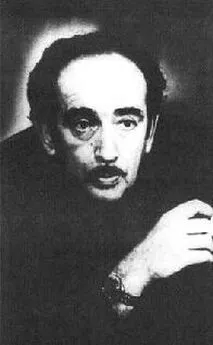
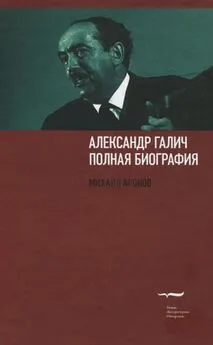
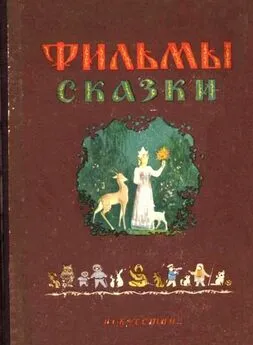
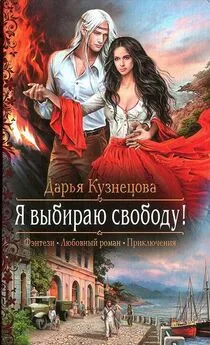
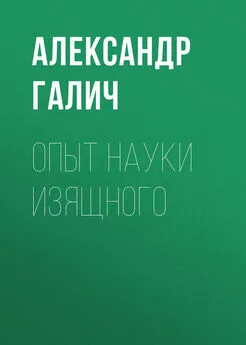

![Александр Галич - Генеральная репетиция [сборник]](/books/1087595/aleksandr-galich-generalnaya-repeticiya-sbornik.webp)