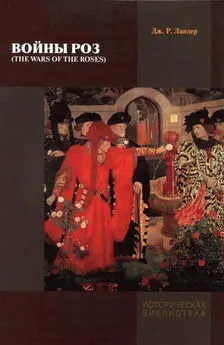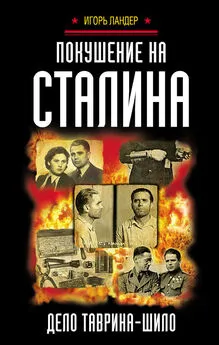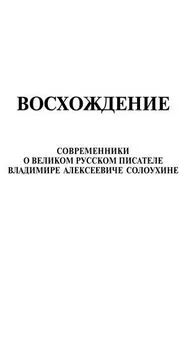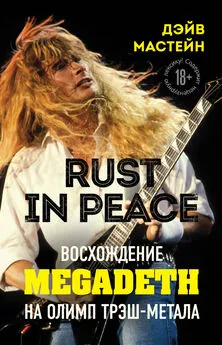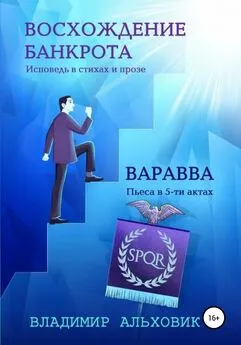Владимир Ландер - Восхождение на театральный Олимп
- Название:Восхождение на театральный Олимп
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:журнал Нёман
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ландер - Восхождение на театральный Олимп краткое содержание
Восхождение на театральный Олимп - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А в начале августа из института пришло извещение: «Вы зачислены студентом на актерский факультет, отделение режиссура драмы на I курс, с предоставлением общежития».
В Барановичах первым на это событие откликнулся Владик Леонов:
Сыграть ты можешь лишь одно — сплошное неподвижное бревно.
Но коль тебя удастся обтесать, как Смоктуновский, будешь ты играть.
И запомни, первокурсник: беспощаден рампы свет,
Но трудней судьбы актера и прекрасней в мире нет.
Студенчество — это маленькая жизнь
В этом году Вера Павловна впервые в Белоруссии набрала экспериментальный актерско-режиссерский курс, то есть режиссеры и актеры учились вместе по одной программе, а специализация начиналась на последнем этапе учебы. Двумя годами раньше подобный курс в Ленинграде набирал Георгий Александрович Товстоногов. И эта новинка пришлась по душе белорусскому театральному педагогу. Ей понравилось, что будущие режиссеры, с одной стороны, годика на три облачаются в «актерскую тогу» и вместе с ними вкушают «актерский хлеб», а с другой, займутся «пробой пера» — будут сами ставить с актерами по курсу этюды, отрывки, одноактовки. Она на своем опыте уверовала, что режиссер без практического знания актерского мастерства, как самолет с одним крылом, — и не взлетит, и актерам судьбу поломает.
Вера Павловна рано увлеклась театром. Талантливую девочку-гимназист- ку из села Николаевка Сумского уезда, что под Харьковом, в Сумах всегда звали на театральные вечера: она прекрасно читала стихи, монологи из различных пьес, занята была в спектаклях. А после окончания гимназии уезжает в Москву на высшие женские курсы, где общение с М. Волошиным, М. Цветаевой, С. Эфросом, О. Мандельштамом, В. Ходасевичем наполняет ее личный багаж новыми знаниями и впечатлениями. Через год ее принимают в частную школу драматического искусства, которая вскоре преобразуется во Вторую студию Московского Художественного театра им. М. Горького. Корни ее там и остались навечно. Мхатовские «старики» научили ее добиваться глубокой и тонкой характеристики образов, правдивого раскрытия психологии сценических героев, их мыслей и чувств, поэтичности спектаклей, но главное, вере в благородство человеческой души. Эту мудрую науку она пронесла через всю свою актерскую, режиссерскую и педагогическую жизнь, а судьба ей отмерила без двух лет целый век бытия.
В 1960 году народная артистка РСФСР Вера Павловна Редлих с семьей переезжает в Минск и возглавляет творческий коллектив Государственного русского драматического театра имени М. Горького, а через несколько лет становится профессором кафедры актерского мастерства Белорусского театрального института, где передает своим воспитанникам давно сформулированное ею кредо для театра — поэзия плюс психология.
В этот раз Вера Павловна отобрала для себя только шесть человек на режиссерское отделение, а остальных студентов — на актерское. Каждое утро она входила в аудиторию с обворожительной улыбкой, нарядная, в хорошем расположении духа, как будто перед дверью стряхнула с себя груз прожитых лет и личных проблем.
Удобно располагалась в кресле. Курс замирал в ожидании не какой-то там назидательной лекции старого профессора, а настоящего спектакля одного актера, где она говорила о величии театра, о знаменитых мастерах сцены, о своем учителе — К. С. Станиславском, который предложил универсальную методику обучения искусству актера и режиссуры. Эта «система Станиславского» стала обязательной школой отечественного театра.
Станиславский считал, что без такого понятия, как «действие», не может быть спектакля. Действие — это язык театрального искусства. Он постоянно говорил, что театр — это не сама жизнь, а только слепок жизни, отображенный в системе художественных образов. В музыке такое отображение реализуется с помощью мелодии и гармонии музыкальных тонов, в скульптуре — с помощью пластического расположения в пространстве, в живописи — через плоскостную композицию и сочетание цветов, а вот в театре — только через «действие». Постижение этих азбучных истин театрального ремесла обычно начинается с простейших упражнений и этюдов. Этюд сначала надо «построить»: определить экспозицию, то есть предметы для изображения, и завязку действия, потом — найти суть самого действия, кульминацию и развязку, что должно быть главным событием любого этюда. Такая «черновая» работа учит будущего актера «выкручиваться» из самых неожиданных ситуаций. Например, если на сцене партнер забыл текст или ошибочно появился не тот реквизит, он мгновенно должен словом или действием найти такой выход, который бы остался незамеченным зрителями.
Вера Павловна старалась развивать актерское внимание своих воспитанников не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Она предлагала наблюдать за людьми и различными ситуациями везде, где бы они ни находились, и вести творческий дневник. А на занятиях разворачивала свое кресло к импровизированной сцене и по записям следила, как будущий актер передает образ — его походку, жесты, мимику, поведение. Иногда «герою» создавала нестандартную ситуацию, которой у него и не было, чтобы понять, как начинающий актер вжился в образ и как он поведет себя в тупиковых обстоятельствах. И когда что-то не получалось, Вера Павловна подсказывала, поправляла, советовала, детально разбирала ситуацию и доводила ее до совершенства.
Михаил Ковальчик с головой окунулся в это учебное пиршество. Он не только осваивал актерское ремесло — сам показывал этюды и много раз удачно ставил их своим однокурсникам. А вот когда поставил пьесу Уильяма Сарояна «В горах мое сердце», получил за это «тройку» и вдобавок бурный поток справедливых нареканий и упреков от своего педагога. Вера Павловна назвала его режиссерскую работу «мейерхольдовщиной» за формальный путь воплощения драматургии. Она сокрушалась: «Это только Мейерхольд позволял себе от Гоголя или Грибоедова оставлять одни «рожки да ножки», против чего всегда восставал Константин Сергеевич. Да и я не учила вас, Миша, так вольно и небрежно обращаться с литературным материалом».
Не на шутку струхнул он тогда. Если бы к «тройке» был приставлен «минус», то массивная входная дверь института могла громко захлопнуться за его спиной досрочно, как за неуспевающим студентом. Выручил Владимир Андреевич Маланкин, заведующий кафедрой мастерства актера и режиссуры, который в то время был на пике своей педагогической славы. Он, как говорил потом Михаил Ковальчик, не побоялся пригласить чуть ли не «двоечника» поставить на его актерском курсе водевиль Николая Некрасова «Петербургский ростовщик», где начинающий режиссер полностью реабилитировался и получил твердую «пятерку». Здесь он уже педантично следовал советам Станиславского: прочитал пьесу, определил художественный образ спектакля, стал выискивать основные факты и их последовательность, и только потом стал оценивать отобранные для спектакля факты, то есть находить в них скрытый смысл, степень значения и воздействия на зрителя. Понял, что только от образа спектакля зависят образы действующих лиц пьесы, которыми были тогда безусые еще первокурсники, а впоследствии выдающиеся актеры белорусских театров, пополнившие «золотой фонд» национальной культуры. И спектакль получился содержательным, веселым, поучительным. Его показывали не только на институтской сцене, но и на подмостках подшефных предприятий. В то время шефство было не только популярным, но и обязательным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: