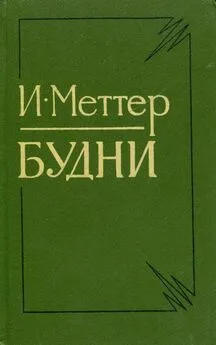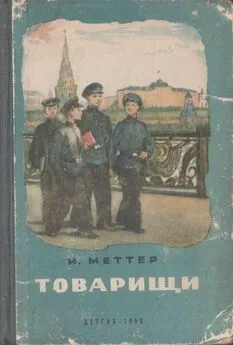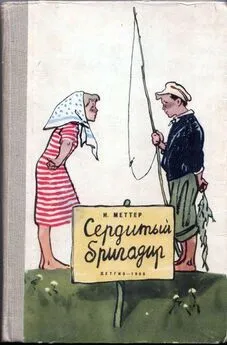Израиль Меттер - Будни
- Название:Будни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1987
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Израиль Меттер - Будни краткое содержание
Будни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще в то время, когда она подымалась из своего кресла и провожала своих гостей в прихожую, то уже на пороге говорила моей жене:
— Христос с вами.
И быстро крестила ее на прощанье.
Еще помню, что от Анны Андреевны, от нее от первой, я услышал о Кумранской находке — о кусках овечьих шкур, найденных пастухом в пещерах: древние письмена на этих шкурах подтверждали будто бы истинность существования Христа.
Анна Андреевна рассказала мне об этом коротко, но глаза ее были озарены.
Мне кажется, что личность Христа была как-то по-особому близка Ахматовой его человеческой сутью и судьбой.
Необычайность ее воображения, поэтического и реалистического одновременно, позволяла Ахматовой приближать к себе и самой приближаться к самым отдаленным историческим явлениям, если, конечно, они ее волновали.
В пушкинские времена Анне Андреевне не приходилось переселяться — она наезжала туда, когда только вздумается.
Ее общение с Пушкиным было общением поэта с поэтом. Это прежде всего. Затем уж — историко-литературным. И наконец, отношение Анны Андреевны к Александру Сергеевичу было — страшно вымолвить! — женским. Она ощущала себя женщиной его круга и ревновала его, как живого, к тем, кто был, по ее мнению, недостоин его. Многослойность ахматовского проникновения в психологию творчества Пушкина позволяла ей разгадывать такую закодированность некоторых его стихов, какую не мог бы постичь ученый: сама логика творчества Пушкина, вряд ли логичная у гения, обнажалась тем поэтом, который и сам был близок Пушкину по его колдовству.
При мне однажды Анна Андреевна с необычной для нее сухостью прервала своего гостя-собеседника, рассуждавшего об ограниченности Натальи Николаевны Гончаровой.
— Пушкин ее любил, — резко сказала Ахматова. — И мы не имеем права осуждать Гончарову.
Это было сказано тем тоном, каким говорят безукоризненно воспитанные люди о семейных отношениях близких знакомых.
Но сама-то Анна Ахматова имела право на свое мнение о жене поэта. И это мнение было горьким, если не сдержанно-презрительным.
Я помню три квартиры Ахматовой, в которых она жила последнюю четверть века своей жизни.
Сперва знаменитый Фонтанный дом — Шереметевский дворец на Фонтанке, затем улица Красной Конницы, неподалеку от Таврического сада, и последняя — в писательском доме на улице Ленина.
Странное воспоминание: три абсолютно разные квартиры — и совершенно одинаковая комната Ахматовой в каждой из них. Всегда с одним окном без солнечного света, всегда спартански суровая или, точнее, не слишком обжитая.
Возможно, это объяснялось тем, что Анна Андреевна подолгу кочевала в Москве; но, главное, я думаю, поэту Ахматовой было безразлично, в какой комнате жить. Все, что ей было необходимо для работы, существовало внутри нее. Невозможно даже представить себе такое сочетание слов: кабинет поэта Ахматовой. И не потому, что его действительно никогда не было, а потому, что его и не могло быть.
Услышав как-то от Анны Андреевны, что цикл ее стихов «Реквием» написан в тридцатых годах, я спросил:
— Как же вам удалось сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?
— А я их не записывала. Я пронесла их через два инфаркта в памяти.
Мне хорошо известно, что личность поэта выражена в его стихах. И даже его биографию, как бы она ни была причудлива, можно проследить все по ним же, по его поэтическим строчкам.
И все-таки…
Все-таки людям, не знавшим Ахматову, Анна Андреевна чудилась уже памятником, они представляли ее при жизни в посмертном академическом издании.
Более того, многие из тех, кто бывал у Анны Андреевны, и вели себя так, будто пришли в гости к памятнику. И это, мне кажется, вызывало у нее двойственное чувство: лишенная всякого общественного признания, Ахматова была рада знакам почтительности и даже преклонения, но одно лишь это паломническое отношение к ней и утомляло и наскучивало ей.
В один из дней рождения Анны Андреевны, лет за пять до ее смерти, я пришел к ней с Александром Александровичем Кроном. Часто бывая в Ленинграде, Крон неизменно навещал Ахматову в самые темные для нее времена, и заведено им было так, что он непременно являлся с бутылкой шампанского и баночкой консервированных ананасов. Раздобывал их иногда чудом.
Однако на этот раз не оказалось ни шампанского, ни ананасов. Насколько помню, мы даже не знали, что этот день — день рождения Анны Андреевны. И пришли мы, прихватив с собой обыкновенную бутылку водки. В тот год Анна Андреевна еще без труда передвигалась по квартире. Сидели мы в кухне за маленьким столиком. Никого, кроме нас троих, не было, вероятно, все поздравлявшие Анну Андреевну в этот день уже перебывали у нее, да и сомневаюсь, много ли людей знали эту дату.
Если бы кто-либо из так называемых «обожателей» Ахматовой заглянул тогда в кухню, он изумился бы до смерти. Ему показалось бы кощунством, что мы болтали с Анной Андреевной. Болтали о чем попало. Ну, ладно, — мы с Кроном никого бы не удивили, но сама-то Ахматова!.. Она не произносила ничего, что можно было расхватать на цитаты, ни грамма «жреческого», «поэтического», мы даже сплетничали о братьях-писателях, и Ахматова блестяще злословила — она умела это делать с одной ей присущим изяществом и наблюдательностью.
Поражала речь Ахматовой, ее лексика. Изумляла внезапная современность ее языка, его сегодняшность, даже уличность.
Разумеется, я не имею в виду уличную брань, издавна ставшую модной и в интеллигентской среде, — в судьи не гожусь, грешен и сам.
Анна Андреевна с легкостью употребляла обороты речи, еще не вошедшие в узаконенный синтаксис, еще не отобранные даже в словарные просторечия. И они вкрапливались в ее речь с ювелирной точностью.
Какими путями все это проникало к Ахматовой, я не понимал: она не стояла в длинных магазинных очередях, почти не пользовалась городским транспортом, не участвовала в массовых мероприятиях, то есть слуху ее вроде бы неоткуда было улавливать звуки уродливых языковых выкидышей, которые лишь впоследствии из гадких утят, бывает, превращаются в белых лебедей.
Разговорный язык необходим был Ахматовой так же, как он был необходим Пушкину. Вспомним, с какой охотой Пушкин пользовался этим грубым языком в своих письмах. Всякая возвышенность речи претила Анне Андреевне. И в свои стихи Ахматова запросто врубала прозаические разговорные обороты: «Какая есть. Желаю вам другую. Получше…» Здесь, в этом оголенном сочетании слов, поэт «опускается» до того уровня, на котором общаются, попрекают мужчин брошенные, обиженные ими женщины любых социальных сословий. И этим достигается всеобщность чувства ревности и женского одиночества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: