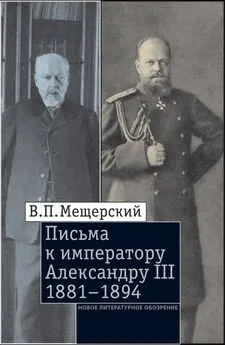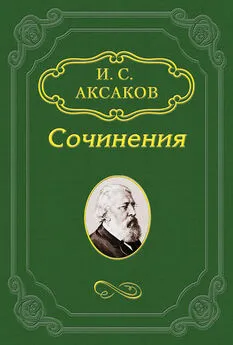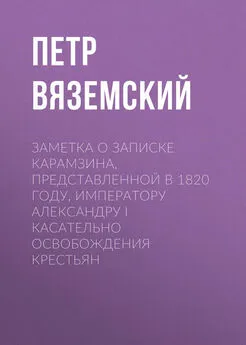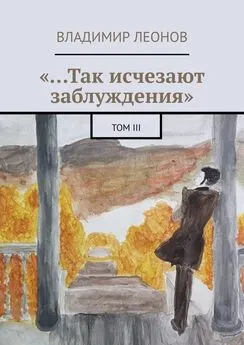Владимир Мещерский - Письма к императору Александру III, 1881–1894
- Название:Письма к императору Александру III, 1881–1894
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1011-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Мещерский - Письма к императору Александру III, 1881–1894 краткое содержание
Письма к императору Александру III, 1881–1894 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Ну это все гадания; войны нет, что тут тревожиться, – отвечает Обручев.
Суется Вендрих к [К. Н.] Посьету.
– Когда будет война, мы отдаем все линии военному ведомству.
– Да что толку, когда вы в мирное время не можете управлять движением линий и требовать от железных дорог исполнения законов эксплуатации: вы ведь в случае войны сдадите железные дороги в том хаосе, в каком они в мирное время.
– Ну уж это их дело!
Читал он лекцию в [Генеральном] Штабе о железнодорожной эксплуатации для военных нужд. Все слушали с трепетом. И что же? Никто пальцем не шевелит. Главный штаб между тем, делая свои расчисления по передвижению войск, приходит к расчету, что ему 8000 вагонов недостает, и просит кредита на заказ 8000 вагонов. Вышнеградский отказывает, говоря, что не только нет недостатка в вагонах, но их излишек, а весь вопрос в том, чтобы уметь в военное время маневрировать вагонами и из центра распоряжаться всеми подвижными составами. Военный министр [813]призывает Вендриха и, показывая ему ответ Вышнеградского, спрашивает: что ему отвечать.
– Ничего, – отвечает Вендрих.
– Как ничего?
– Ничего, потому что Вышнеградский прав, ни одного вагона не нужно; их слишком много, а нужно центральное эксплуатационное бюро, и на это Вышнеградский сказал мне, что на это учреждение он за деньгами не постоит.
Ну и что же? Учредил военный министр комиссию; вошли в нее члены всех министерств; толковали, говорили и затем разошлись. Дело замерло.
– И страшно становится от одной мысли, что может произойти в случае не дай Бог войны, – говорит Вендрих, – целые отряды могут засесть на пунктах, где ни пуда хлеба нельзя будет достать; артиллерия может засесть где-нибудь за недостатком открытых вагонов-платформ; провиант, снаряды могут двумя, тремя сутками запаздывать за отрядами. Словом, все, что происходило невообразимо безобразного в 1877 году на румынских жел[езных] дорогах, то в десять, в двадцать раз в больших размерах будет происходить у нас в случае войны с Австриею или Германиею.
Затем Вендрих указал на другую слабую сторону нашего военного железнодорожного вопроса, это полное неустройство железнодорожных баталионов и запасов. За границею для того, чтобы мобилизовать все железнодорожные запасы на случай войны, нужно maximum трое суток; все запасные железнодорожные нижние чины до машинистов включительно находятся при линиях; у нас дай Бог в 20 дней управиться. Мало того, все линии от Варшавы к австрийской границе и к прусской границе переполнены поляками, не знающими даже русского языка настолько, чтобы понимать его; ни одного нет русского даже стрелочника: в случае войны прийдется в один день всех без исключения служащих на этих линиях уволить за ненадежностью; что тогда делать? Брать русских, но откуда, и как эти русские успеют примениться к новым линиям впопыхах открытия военных действий?
А между тем ни [И. В.] Гурко, ни военное ведомство, ни Министерство путей сообщений не возбуждают доселе об этом ни малейшего намека даже на вопрос. Когда я остался один, увы, я опять вернулся под влиянием разговоров, только что слышанных, к мысли, которая не меня одного, но многих, и в особенности военных, мучит как кошмар: мысль эта – два брата Обручевы… Ведь оба были уличены в измене – в 1863 году! Один обвинен и приговорен к казни [814], а другой выгнан из службы и спасенный [Д. А.] Милютиным… Теперь первый – орудует Штабом, то есть назначениями в Морском министерстве, а второй – ужасно сказать – держит в руках судьбу России, армии, Царя в случае войны… Ужасно, страшно думать об этом. Ведь нет ни единого военного, ни единого служащего в Главном штабе, который бы не считал [Н. Н.] Обручева опасным. Боже, Боже милосердый, дай Царю страх этого человека!
При разговоре об Обручеве адъютант [Л. М.] Чичагов рассказывал, что ему пришлось видеть телеграммы покойного Государя к Вел. Кн. Николаю Никол[аевичу] во время войны и ответ Вел[икого] Князя. Покойный Государь ему телеграфирует о Своем намерении назначить Обручева начальником штаба при Цесаревиче, в случае назначения Его вместо Гурки, начальником отряда для Балканского похода. Вел[икий] Князь отвечает покойному Государю, что с 1863 года он Обручеву не дает руки!
[20-е числа января]Осмеливаюсь обратить Ваше внимание, Государь Всемилостивейший, на прилагаемый циркуляр [А. К.] Анастасьева, черниговского губернатора [815].
Это глубоко отрадное явление.
Смею думать, что если бы Вы отметили бы на нем – ведь № «Гражданина» мог бы быть в Ваших руках, – или же на Вашем веленевом №ре, если бы велели разыскать его, простые слова: «благодарить черниг[овского] губернатора за этот прекрасный циркуляр» или: «благодарю черниговского губернатора за его верное понимание долга» или же: «благодарю черниг[овского] губернат[ора] за его заботливость о Нашем доблестном (или: о нашем дорогом) войске», и переслали гр. [Д. А.] Толстому, то опубликование Ваших слов благодарности имело бы тройное громадное значение: 1) награды и одобрения губернатору неоцененных, 2) поощрения другим губернаторам и 3) слов отрадных для всего войска.
Мне кажется, что Вы бы могли проще еще, не посылая «Гражданина» к Толстому, прямо написать ему: « Прочитал циркуляр черниговского губернатора. Поблагодарите его (или: благодарю его) за то-то ».
Это тем более имело бы значение, что все газеты нарочно ни звуком не отозвались на этот прекрасный циркуляр.
«Г. Начальник 5-й пехотной дивизии [816]5 января за № 33 препроводил мне переписку, возбужденную командиром 2 бригады вверенной ему дивизии. Из этой переписки видно, что командир бригады, озабочиваясь оздоровлением местности, в которой квартируют вверенные ему войска, обратился об этом к глуховскому исправнику [817], который, в свою очередь, отнесся непростительно к этому делу лишь с формальной стороны, передав отношение бригадного командира в Глуховскую городскую управу. Управа эта, вместо того, чтобы исполнить законное требование генерал-майора Гец, направленное к глуховскому исправнику, – позволила себе грубо и дерзко отнестись к справедливой и сердечной заботливости военноначальника о здравии вверенных ему нижних воинских чинов.
Грубость и дерзость городского головы купца Букатина и члена управы, титулярного советника Домбровского, заключается в том, что на требование, предъявленное им начальником уездной полиции, они позволили себе отнестись к генерал-майору Гец, – и в своем сообщении к его превосходительству излагают: “Так как в городовом положении, которым городская управа руководствуется при исполнении возложенных на нее обязанностей, нигде не указано, чтобы в хозяйственные дела города вмешивались военные власти (?!) квартирующих в городе частей, просить ваше превосходительство указать управе тот закон, на основании которого управа обязана, по требованию военных властей, временно квартирующих в городе, очищать улицы и площади от нечистот”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: