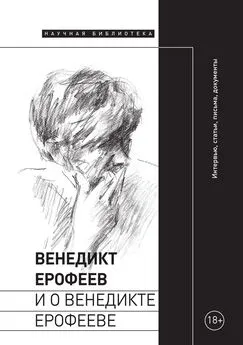Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний
- Название:Венедикт Ерофеев: посторонний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-111163-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний краткое содержание
Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — авторы первой биографии Венедикта Ерофеева (1938–1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств современников, документы и воспоминания, пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.
Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме.
В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева.
Венедикт Ерофеев: посторонний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выйдя из вагона на перрон, Веничка восклицает: «Царица небесная, я — в Петушках!..» (211) — но он не в Петушках, а в Москве как «тупике бытия». «Ничего, ничего, Ерофеев… — продолжает он. — Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди» (212) — но идти ему приходится не к возрождению, а к казни и смерти. Итак, герой завершает свое путешествие на последнем, девятом круге ада — в пространстве абсолютного зла ; здесь ему предстоит преодолеть рубеж более-чем-трагического и достичь крайних пределов «мировой скорби» — сначала абсолютного отчуждения , затем абсолютной боли .
На страшном, все более страшном пути Веничке вновь приходится испытать все ранее испытанные муки — только теперь они возведены в абсолют: этот максимум бессильной тоски («…ты раздавлен, всеми членами и всею душой…», 212), отчаянья («О, невозможность!», 211; «…никто никогда не встретит», «некуда идти», 212), абсурдной вины («Мене, текел, фарес — то есть „ты взвешен на весах и найден легковесным“», 214), безысходной жажды («Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! <���…> Но кубанской не было…», 214), хтонического ужаса («…Вы сидели когда-нибудь в туалете на петушинском вокзале? помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета? — вот такие были глаза у всех четверых», 214; «Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших», 216), предел инфернального эроса («…кто зарезал твоих птичек и вытоптал весь жасмин?..», 211), убиение в абсолюте — ради убиения («Ну, вот ты и попался…», 215), бойня в абсолюте — ради бойни («Ты от нас, от насхотел убежать?», 216).
В конце поэмы повторяются, по неумолимой логике закольцовывания, и все главные темы, заданные вначале. Как в первых главках, Веничка и в последних оказывается в пространстве тотального отчуждения — только теперь это отчуждение в прогрессии, во вселенском масштабе. Все объекты кругом становятся не просто чуждыми, но огромными в своей чуждости: «Странно высокие дома понастроили в Петушках!..» (213); «Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..» (214). Они или остаются неузнанными (ни аптеки больше не встретится, ни магазина; «…я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог…», 214), или, узнанные, угрожают и страшат: «райсобес, а за ним туман и мгла» (216); «…Он [Спаситель] это место [Кремль] обогнул и прошел стороной» (216). При этом город абсолютно пуст: «…на площади ни единой души, то есть решительно ни единой…» (212), на стук, вопреки евангельскому: «стучите, и отворят вам» (Матфей 7:7), не следует никакого ответа. Но никто не отвечает и сверху («…но правды нет и выше»): «все <���…> путеводные звезды катятся к закату» (214), ангелы смеются страшным смехом, а Господь — молчит. Веничку окружает космическая пустота, и на огромных улицах и площадях, среди огромных домов он видит только преследователей, только потусторонних мстителей.
Возвращается и другая тема начальных главок — крестного пути и Голгофы, только прежней травестии и комического снижения этой темы в заключительной части поэмы нет и в помине — напротив, до предела нагнетается ужас. Но главное — прежде Веничка, претерпевая свои муки и принимая символическую казнь, знал об обещанном воскресении, теперь же — все худшее ему предстоит (и издевательства, и побои, и страдания плоти, и, наконец, казнь), а в лучшем — в воскресении — отказано: «…С тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду» (218).
В конце крестного пути Веничку ждет не убиение (как от Митридата) и не бойня (как от рабочего и крестьянки), а именно казнь. В литературе о «Москве — Петушках», уже весьма обширной, с особенным рвением обсуждаются две своего рода сфинксовых загадки, связанных с этой казнью, — кто убийцы и что значит красная буква «ю» в последнем предложении?
Сразу напрашивается версия о четырех римских легионерах — стражах ведомого на Голгофу Христа, ведь сказано же о трижды отрекающемся Петре, что он грелся у костра «вместе с этими» (215) [820]. Однако одним вариантом дело не ограничивается: разнонаправленные знаки, рассыпанные в финальных главках Ерофеевым, диктуют самые разнообразные догадки. Наиболее экзотичная из них предложена Е. Ляховой и В. Тюпой: Веничку убили сами небесные ангелы, и среди них «не дождавшийся отцовских орехов умирающий (т. е. присоединяющийся с сонму ангелов) младенец» [821]. Другие исследователи на место четырех «иксов» подставляют всадников Апокалипсиса [822], животных «перед лицом Сидящего на престоле» из «Откровения Иоанна Богослова» [823], серафимов из книг Иезекииля [824]. Ближе всего к Ерофеевскому замыслу, на наш взгляд, ключ, предложенный Б. Гаспаровым и И. Паперно, согласно которым в рожах убийц проглядывают лики вождей — классиков марксизма-ленинизма [825]; на это соответствие больше всего указаний: «что-то классическое» в лицах (214), «газеты» (215), «Кремлевская стена» (216). Важной представляется и кафкианская ассоциация: «Финал — „М<���осквы> — П<���етушков>“ представляет собой, по-видимому, цитату финальной сцены „Процесса“ Кафки…» [826]; убийцы Венички сближаются с палачами, которые приходят за Йозефом К [827].
Есть ли один ответ на волнующий исследователей поэмы вопрос? По большей части разгадывающие ерофеевскую загадку руководствуются логикой «или — или», тогда как захваченное делириумным кошмаром сознание Венички, лихорадочно пульсирующее в круговерти сна-виде́ния, гораздо ближе к логике «и — и». Почему убийцам не быть одновременно и римскими гладиаторами — в одном из параллельно возникающих пластов вещего бреда, а в другом явиться к герою в кошмарно-карнавальных масках вождей мирового пролетариата, и при этом еще не зачерпнуть кафкианского абсурда? Загадки всегда загаданы Ерофеевым с умыслом лукавого протеизма: чем больше версий у озадаченных читателей, тем лучше работает выстроенная им машина перекличек и ассоциаций.
Важнее другие вопросы, отчаянно задаваемые Веничкой, — почему и зачем? Почему четверка должна непременно убить героя? На этот вопрос отвечают — «А потому»; «Да потому» (215); таков абсурдный ответ бездны, «жижи карего цвета»; ответ той бессмыслицы, которая плещется уже за пределами трагедии, даже за пределами дочеловеческой мудрости Силена и кипения дионисийской магмы. И все же — не получив другого ответа от тьмы, кроме отмены всех смыслов [828], мы должны получить его от самого убиваемого. И здесь все упирается во вторую загадку — в лейтмотив буквы «ю», расплывающейся в конце красным.
Трудно не согласиться с И. Сухих, выражающим сомнение по поводу попыток ограничиться только биографическим ключом и расшифровать «ю» как Юлию (Рунову) [829]или как осколок анаграммы с отгадкой «люблю». Однако и здравого смысла самого́ Сухих — нам мало: «Буква „ю“, из малой становящаяся большой, символизирует последнюю вспышку сознания героя: это либо его воспоминание о сыне, либо возвращение в детство („Будем как дети…“)» [830]. И только? Тогда бы не приберег автор букву «ю» для последнего, решающего предложения поэмы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


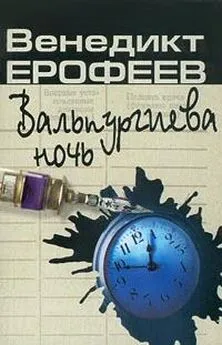
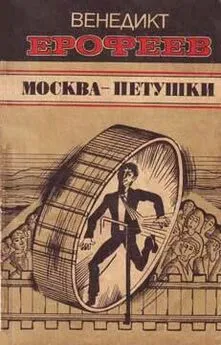
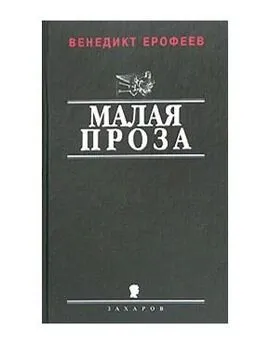
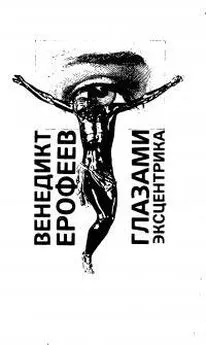
![Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]](/books/1090499/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill.webp)