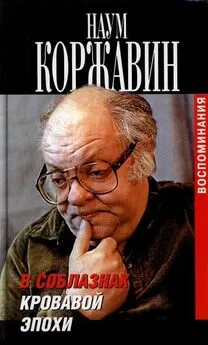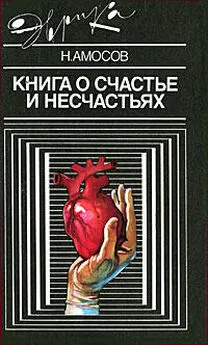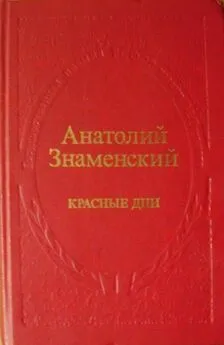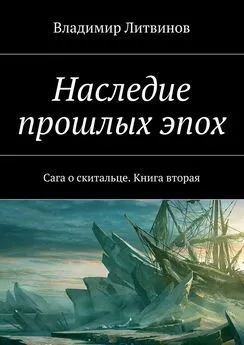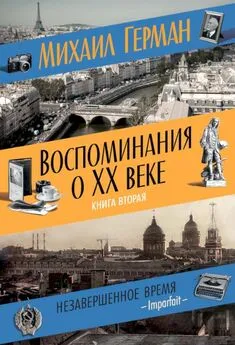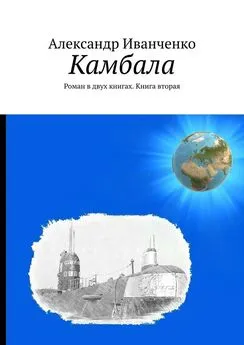Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0656-3, 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И все-таки я и теперь не испытываю удовольствия, когда думаю о том, что перед окончательным исчезновением ему еще пришлось походить с цербером. У этой преступной партии, взявшей на себя божественные функции творения мира (определение, услышанное мною от Н.А.Струве), все-таки была и своя трагедия. И ее не стоит игнорировать. И потому что она имеет отношение к духовному опыту человечества (в отличие от сталинщины, которая, может быть, и бич Божий, но духовным опытом не является). И еще потому, что она наложилась на трагедию страны. Сталинских клевретов последних призывов присутствие церберов вовсе не оскорбляло, они к этому относились как к чему-то само собой разумеющемуся, даже почетному — значит ценят. А ведь это было не слежкой, не подслушиванием, даже не открытым наблюдением, а наглым неотступным следованием (под видом охраны) за человеком. И применялось это не по отношению к реальным или мнимым недругам, а к лицам, в официозной печати именовавшимся вождями (потом «руководителями партии и правительства»). Правда, и они, когда предвкушали наступающую немилость, начинали этих церберов опасаться. Но уж никак не оскорбляться. Право оскорблять было уже в их глазах естественной прерогативой Вождя и любого другого начальства. Так что это их иногда пугало, но отнюдь не оскорбляло. Косиора еще — оскорбляло. Говорить, что избавление от таких рудиментов не налагало ничего на историю страны и ее облик, все-таки нелепо.
Кстати, тетя Роза тоже была «партийкой», пока ее в 1937 году не исключили — кажется, за связь с «врагами народа». Видимо, исключили ее слишком поздно — начался откат, Ежова сменил Берия, и ее не посадили. Потом ей даже предлагали восстановиться в «рядах», но она этого делать не стала. Возможно, потом это спасло ей жизнь — о ней забыли. Но как показывает случай со мной, она отнюдь не перестала быть самой собой.
Между тем муж ее, Давид Михайлович, продолжал пребывать в партии. Правда, к партократии он не относился — работал рентгенологом в районной поликлинике на Щипке. До этого он был главврачом этой поликлиники. Думаю, что ушел он с этой должности по возрасту, а не из-за «жидоморства». Был он настоящим русским интеллигентом. Это о нем я вскользь рассказал, что, когда его хоронили, пожилые нянечки и санитарки плакали:
— Какой хороший человек был! Когда в войну главврачом работал, себе в последнюю очередь брал… Теперь таких нет.
Представить, будто он не понимал, что мое пребывание в их доме грозит неприятностями, невозможно. Понимал. И что тут его членство в КПСС явилось бы отягчающим обстоятельством — понимал тоже. Но он ни разу не проявил при мне никакого беспокойства по этому поводу. Причем, если самоотверженность тети Розы как-то еще можно было объяснить родственными чувствами (весьма, впрочем, искусственно — напоминаю, мы и знакомы до этого не были, а мою мать до моего ареста она видела раз или два за всю жизнь), то Давид Михайлович был мне только свойственником, к тому же весьма отдаленным. Конечно, почти сразу мы стали близкими людьми, но ведь до этого надо было захотеть меня приютить. Конечно, потом я беспрепятственно ночевал у многих своих друзей, но ведь они были друзьями (дружбу Сталин, несмотря на все старания, разрушить не смог), а тут мне пришли на помощь — да еще как! — практически совсем незнакомые люди — из чистого благородства. Безусловно, это было традиционное поведение русского интеллигента. Но ведь из многих Сталин эту традицию выбил. Из них — нет.
Кстати, при этом Давид Михайлович, в отличие от своей жены (все-таки бывшая эсерка), существующий строй вовсе не отрицал. Он часто мне говорил:
— Эма, не впадайте в бальзаковскую ошибку.
Сегодня это выражение мало кому понятно. Не говоря уже о том, что мало кто теперь читает этого гениального французского писателя. Связано это выражение с каким-то высказыванием Маркса, сводящимся к тому, что Бальзак из ненависти к буржуазному строю стал легитимистом, но как художник он объективно изображал современное ему общество и классовые отношения. «Бальзаковская ошибка» — это отрицание более прогрессивного общества из-за его язвы, которых раньше — во всяком случае, в таком количестве — не было. Я был согласен с Марксом насчет Бальзака, но не согласен был, что она применима к современному нам строю. Сталинщина явно не была в моих глазах прогрессивной и, как я потом понял, не была строем — и стабильность, и монументальность ее были локальны, не имели в себе ничего самодвижущего или самовыживающего. Держалась она на тотальном насилии и тотальном обмане, а также на бессовестной трате природных богатств, позволявших как-то до времени откладывать решение нарастающих проблем. О роли насилия и обмана я знал (что она громадна), но в целом это мысли иного времени — призрачность наших индустриальных достижений тогда не было ясна и мне.
Впрочем, о «язвах», о том, что такое сталинщина и Сталин, обо всех его проделках на пути к воцарению Давид Михайлович знал больше меня. И говорил об этом прямо. К ситуации относился с отвращением, предоставлял мне пристанище… Только что боялся «бальзаковской ошибки».
Честность его была невероятна. Его сын, ныне доктор химических наук Евгений, когда в 1955 году увольнялся из армии, проходил медкомиссию. Какая-то заминка вышла с рентгенологом. Дело затягивалось. Кто-то спросил его, нет ли у него в Москве знакомого рентгенолога, и, услышав, что им является родной отец, обрадовался:
— Вот хорошо. Только вы ему скажите, чтоб он написал это вот в такой форме (невинно сгущавшей краски), и вы получите преимущество после увольнения.
— Ты ж понимаешь, как бы отец воспринял такое предложение, — говорил мне потом Женя. — Конечно, я ему ничего такого не сказал… Просто он сделал рентген и описал то, что увидел. И я уволился нормально.
Конечно, и сам Женя не был склонен к таким махинациям, тем более дающим какие-то материальные выгоды. Но уж для Давида Михайловича и сам разговор об этом был немыслим. Он был бы потрясен, услышав такое предложение от родного сына.
Однажды кто-то попытался всучить ему взятку — не для каких-то льгот, а чтоб лучше лечил. Существовало уже такое поверие в народе. Давид Михайлович об этом поверии не знал или его не понимал. И был до глубины души оскорблен. Но при этом оставался в пределах вежливости. Он только запер дверь и сказал:
— Деньги свои вы, пожалуйста, заберите. Заберите, прошу вас.
Растерянный пациент счел за благо их взять и рванулся уходить.
— Нет, задержитесь, пожалуйста, — продолжал Давид Михайлович. — Я хочу понять, почему вы решили мне дать эти деньги. Может быть, что-то в моем поведении дало вам повод так думать обо мне? Вы скажите, что именно, чтоб я мог это учесть и больше такого повода не давать… Скажите, разве я дал повод?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: