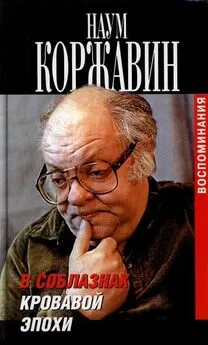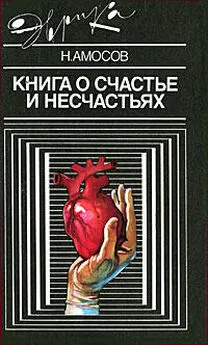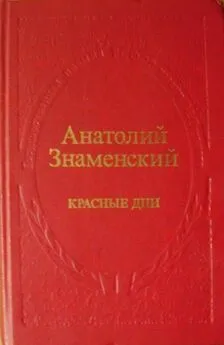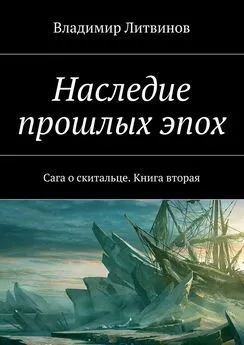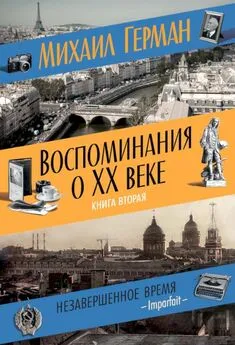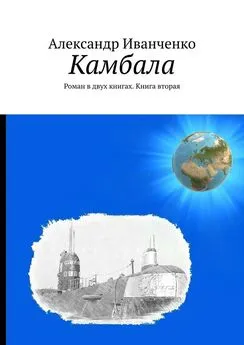Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0656-3, 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я стал заходить к нему. Кажется, даже стал посещать занятия литобъединения. Там или просто через него я познакомился со многими другими пишущими людьми. Собирались и на частных квартирах, толковали, спорили… Там у кого-то в гостях я познакомился с начинающим прозаиком Петром Проскуриным. Потом он стал известен. О нем и его творчестве среди тех, с кем я обычно общаюсь, сложилось устойчиво отрицательное мнение. Я не могу его ни поддержать, ни опровергнуть, ибо, к сожалению, никогда не читал его произведений или выступлений. Его относят к крайне националистическому лагерю, к шовинистам и антисемитам. Если так, значит он сильно изменился. Такое бывает, когда человек замахивается на то, что ему не по плечу, он ощущает себя обойденным и часто (но тоже не всегда) приходит к такому объяснению своих неудач и к такой активности. Какой сук Проскурину по плечу, на что он замахивался и что из этого получилось — не знаю. Так же как ничего не знаю ни о его поведении, ни о каких-то совершенных им лично конкретных низостях. Это не значит, что таких не было, но значит, что я о них не знаю. Мне известна только его репутация. А на одной репутации я основывать свое отношение боюсь. Ибо репутация — вещь ненадежная. Часто она зависит от случайных безответственных «веяний» и аналогий.
Я никогда не забуду, что на вечере в ЦДРИ, посвященном памяти Федора Абрамова, из всей российской либеральной интеллигенции присутствовали только три человека: ее организатор и ведущий Борис Можаев (теперь уже тоже покойный), вдова Абрамова Люся и аз многогрешный. Еще можно причесть моего друга, профессора-геофизика Марка Бердичевского, который меня по моей слепоте сопровождал. Но Люся приехала из Питера, а я и вовсе из Бостона — так что, выходит, всю московскую либеральную элиту представлял один Можаев! Может, был там еще кто-то, кого я не знал, но таких явно было немного. Какие же веяния и аналогии запудрили мозги всех остальных, на каком основании сочли они возможным презреть память большого русского писателя и гражданина? С тех пор никаким репутациям я не доверяю. Это относится и к репутации Проскурина. Кстати, Булат Окуджава, знавший Проскурина по Калуге, счел возможным посвятить ему одно из своих стихотворений. Разумеется, и это ничего не доказывает. Но я ведь ничего и не утверждаю. Я только рассказываю о том, как в 1951 году жил в Калуге, где и когда мы с ним только и встречались, точнее, встретились — раз или два. Тогда он произвел на меня хорошее впечатление: умный, серьезный, вдумчивый, доброжелательный. Общаться с ним было приятно. Не так у меня там много было таких встреч, чтобы эту забыть.
Помню еще одного молодого парня, поэта из глубинки и литсотрудника районной газеты. Помню, как в духе времени (точнее, в духе, навязанном времени) искренне верил в свой местный «приоритет» — доказывал, что какое-то изобретение или открытие прошлого века, имевшее мировое значение, было впервые сделано в их районе. Правда, мои возражения он выслушивал спокойно, не подозревая меня по этому поводу ни в сионизме, ни в общей враждебности к русскому народу.
Говорили мы в основном о литературе. Но, говоря о литературе, трудно игнорировать жизнь — ее историю и настоящее. А и то и другое было делом засекреченным, точнее сказать, табуированным, а рассекречивание его, касание этого табу — криминалом. Но интерес к этому — сознательный и подсознательный — был жгучим. Человеческое сознание не может мириться с перманентной прострацией и стихийно стремится вырваться из-под ее власти. Поэтому так или иначе разговор соскальзывал на это. В истории последних десятилетий я был осведомлен больше других и иногда это проявлял. Для некоторых то, что я говорил, было непривычно. Ничего, слушали. Иногда с недоверием, но всегда с интересом — страшно было взвалить на себя тяжесть такого знания. Даже (а может, особенно) внутри ленинизма. Кстати, именно на это было прежде всего нацелено МГБ. Это было тогда опасней всего. Но поначалу все мне сходило.
Я отнюдь не был в этом одинок — не только в Калуге, но и в Калуге. Некоторые это (не все, а, как и я, только «это» — в советских рамках) и сами понимали: и тяжесть лжи, и общее неблагополучие. В Калуге, в том кругу, где я оказался, такими людьми были молодые инженеры Павел (Паша) Опилев и его прелестная жена Катя. С ними я и подружился ближе, чем со всеми. Оба они светились какой-то чисто русской, неотъемлемой, почти совсем не сознающей себя чистотой и благородством. Надеюсь, что они еще живы (если они и были старше меня, то ненамного), но по суматошности своей жизни я потерял их из виду. Однако никогда их не забывал, всегда хранил теплую и благодарную память о них. Их дом был для меня родным, я приходил к ним часто, чтоб отдохнуть среди своих.
Я не передаю наших бесед, ибо для современного читателя они сводились бы к констатации очевидностей. Но самое трудное тогда, как и во всю советскую эпоху, было признать очевидное очевидным. И, кстати, среди этого каскада очевидностей утверждение, что водительство Сталина не соответствует коммунистической идеологии — идеям равенства, романтической верности мировой революции и т. п., — было одним из самых страшных и трудных. Мнимость этих «ценностей», которую большинство из нас осознали не в «перестройку» даже, а еще во второй половине пятидесятых, не отменяет этого несоответствия и трудности его осознания. Конечно, несоответствие уровня жизни и социалистического порядка тому, за что это выдавалось, тоже отмечалось нами, но это было вещью наглядной и всем ясной. Правда, она все-таки позволяла принимать себя за локальные «отдельные недостатки», к чему многие прибегали. Идеологическая критика строя сразу обнажала его тотальную лживость и таких лазеек не оставляла. Мы говорили и о том, и о другом. Разговоры эти не имели практического значения, они были для отвода души. А так ли уж это мало? Да, мы вели их не для выдвижения программы сопротивления — какое могло быть сопротивление в раздавленной стране? — а «только» для того, чтоб ощутить самих себя, сохранить доверие к собственному разуму и восприятию. И это доставляло нам наслаждение, укрепляло нас. Если не ты один помнишь, что дважды два четыре, то это действительно все еще так. Это было именно то, что подсознательно (может, и сознательно) стремился, но не смог убить в людях Сталин (удалось ему это только в своем ближайшем окружении). И чувствовал он верно — сама потребность в таком самоощущении, практически в духовном и интеллектуальном самосохранении — свидетельство независимости и некоторого подспудного оптимизма, который в нас не умирал и который по природе был противопоставлен насаждаемой им фантасмагории и прострации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: