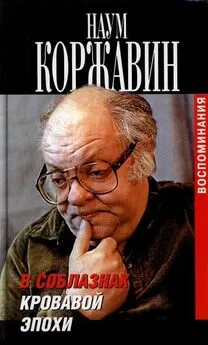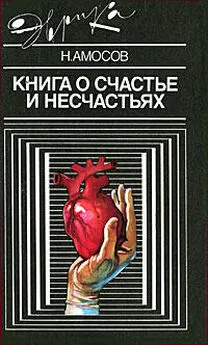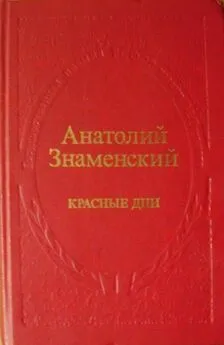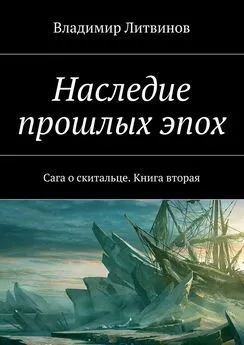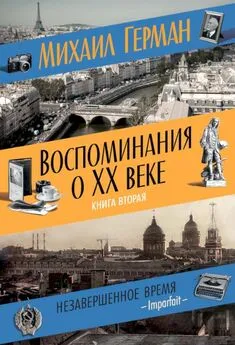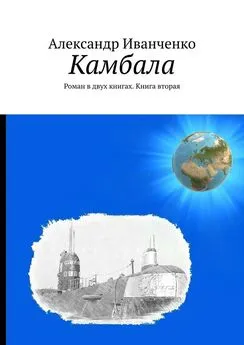Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0656-3, 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это состояние наложило свой отпечаток на мое стихотворение «На смерть Сталина», написанное в день похорон, на следующий или через день — не позже. В нем я отношусь к Сталину гораздо мягче, чем относился на самом деле. Там есть даже восклицание: «Я сам не знаю, злым иль добрым роком / Так много лет он был для наших дней», хотя я прекрасно знал, что злым. Так что ж я, приспосабливался? К кому? В те дни эти стихи не только бы не напечатали, а могли бы за них и посадить — причем на этот раз не для плана, а по велению души. А кто-то, и не обязательно гэбэшник, мог бы от чистого скорбящего сердца просто морду набить. Ну хотя бы из-за этих же строк. Как так, «не знаю»? Ведь гений и спаситель!.. А тем более из-за двух предшествующих: «Холодный траур. Стиль речей высокий. / Он всех давил и не имел друзей». А в стихотворении ведь и почище есть. Во всяком случае, когда я прочел эти стихи Гусеву, он оценил это как знак доверия. Нет, оно оставалось по тем временам вполне крамольным. А времена эти еще совсем не кончились и никто пока не знал, что кончаются. Нет, приспособленчеством здесь и не пахло. Я рассказываю о том, что стихи эти не совсем точно отражали мое понимание происходящего. Понимал я это все жестче, а написал так. А иначе не мог, что-то (может быть, толпа на площади?) мне не давало это сделать, что-то, через что я не мог перешагнуть. Там и строки такие были: «И лишь народ к нему не посторонний, / Что вместе с ним все время трудно жил». Это как бы ответ на предшествующие всему процитированному строки: «Его хоронят громко и поспешно / Соратники, на гроб кося глаза». Логически говоря, в свете того, что я знал даже тогда, а тем более теперь, в этой ситуации разумней было бы сочувствовать его грешным «соратникам», наконец-то избавившимся от него, но стихотворение против моей воли влекло меня этим путем. Меня это самого смущало, но теперь я нисколько не жалею, что уступил ему. Думаю, что я уступил художественному чувству, замыслу, от меня не зависящему. А руководить течением стиха — дело гиблое. Кстати, если насчет Сталина я в этом стихотворении «недобрал» до уровня моего тогдашнего понимания, то в конце стихотворения я «перебрал», вышел за его пределы, за пределы большевизма вообще, выразив надежду, что страна поймет: «Что слепо верить никому не надо / И к правде ложь не может привести». Я говорю здесь не о стихотворении, не о его качествах, оно несколько раз напечатано, и каждый может выработать к нему свое собственное отношение, я говорю о влиянии общего настроения на него. Следовательно, об этом общем (конечно, локальном, характерном для краткого отрезка времени) настроении. А может, и о том, что за ним стояло — о нашей искореженной судьбе.
Дни, последовавшие за этими историческими похоронами, как будто ничем знаменательным не отмечены. Угрозу, висящую над нами, никто не рассеивал. Антисемитские фельетоны продолжали появляться, но как будто реже, и не в центральной прессе. Тревога не проходила, но теряла остроту, возможно, просто стала привычной. Но 27 марта грянул Указ Верховного Совета СССР об амнистии.
На первый взгляд, событие это было вполне ординарным. И при жизни Сталина время от времени появлялись такие указы об амнистии. Общей чертой этих амнистий было то, что «политических», то есть сидевших по политическим статьям, они не касались. Как я уже отметил, на первый взгляд, этот указ в этом отношении следовал предыдущим. В одной из первых строк он громогласно объявил, что на ряд статей, в том числе и на «пятьдесят восьмую», амнистия не распространяется. О чем же тут говорить? — вроде все ясно. Настолько ясно, что через много лет не заметил подвоха такой видный историк, как Р.Г.Пихоя. В своем изданном недавно интересном и важном труде «Советский Союз. История власти. 1945–1991» (М.: ВАГС, 1999) он отмечает, что сидевших по политическим статьям этот указ, как и все предыдущие, не касался. Между тем я точно (на собственном опыте — куда точнее!) знаю, что это не так. Касался и коснулся — я, например, по нему освободился от 38-й статьи положения о паспортах.
Впрочем, поначалу я тоже так воспринял, даже иронически хмыкнул: «Ну, конечно!» Но поскольку интерес у меня к этому вопросу был не академический, я вчитался в текст указа внимательней. И нашел то, что искал, точнее, то, что хотел и втайне надеялся найти (что-то, видимо, было в воздухе, что питало эту надежду). Почти уже у самого конца мелким шрифтом сообщалось, что амнистии подлежат все осужденные на срок до пяти лет. Исключения по статьям при этом не оговаривались. Я перечел этот указ несколько раз — упоминания о том, на кого это не распространяется, не было. А это значило, что я могу получить чистый паспорт и жить в Москве. В стране явно что-то менялось. На другой день, захватив свои документы, я зашел в прокуратуру и спросил, распространяется ли на меня амнистия. Молодой прокурор ответил, что да, распространяется. Я обрадовался:
— Значит, я могу сейчас пойти в милицию менять паспорт?
Но оказалось, что для замены паспорта одного указа мало — нужна специальная, разработанная на его основе инструкция, которая придет на днях.
— А как я про это узнаю? — удивился я.
— Наведывайтесь ко мне ежедневно к концу рабочего дня и узнавайте, — любезно предложил он.
И я наведывался. Несколько дней подряд. И каждый раз задавал один и тот же вопрос, получал отрицательный ответ и уходил. Пока однажды под вечер молодой прокурор ответил мне, что инструкция пришла и я могу идти в милицию. Я сказал «спасибо» и бросился бегом в Михайловку. День уже кончался, а мне надо было успеть забежать домой за паспортом, заготовленными фотографиями и справкой об освобождении и поспеть в милицию до закрытия. Собственно, это можно было проделать и завтра, и послезавтра, от этого ничего не зависело, но мне не терпелось. Милиция была пуста, я был единственным посетителем. Паспортистка дала бумаги. Я быстро заполнил нужную анкету, документы у меня приняли без звука и велели за паспортом зайти завтра. Когда я пришел в назначенный срок, милиция была переполнена — амнистированные услышали об амнистии. Но для получающих очереди не было. Мне выдали ЧИСТЫЙ паспорт. В стране явно что-то менялось. Вернее, начало меняться. Но тогда из моих друзей это распространялось еще только на Ваву, Заяру Веселую (дочь расстрелянного писателя Артема Веселого) и на Алика Вольпина — они были осуждены на пять лет ссылки и тоже подпадали под амнистию. Освобождали с таким сроком и из лагерей. А вскоре во все лагеря были направлены специальные комиссии, которые пересматривали дела «политиков» и скашивали всем сроки до пяти, после чего они автоматически попадали под амнистию и освобождались. Это, на мой взгляд, и было главной целью этой «ворошиловской» амнистии, остальное — камуфляжем. Боюсь, что и выпуск столь большого количества закоренелых уголовников, некоторое время буквально терроризировавших всю страну, тоже был камуфляжем. Переборщили малость. Хотели разгрузить лагеря, но боялись недоуменных вопросов: «Как же это так?» и «А где вы были?», которые потом все равно стали задавать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: