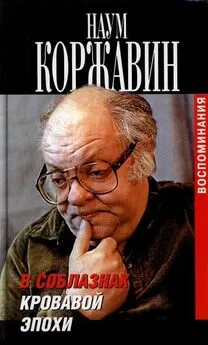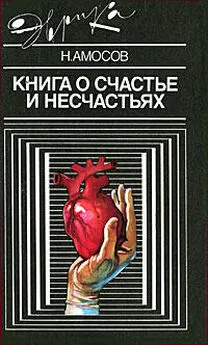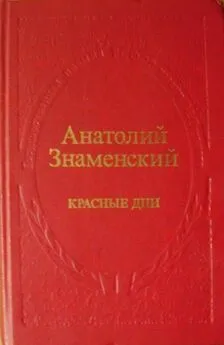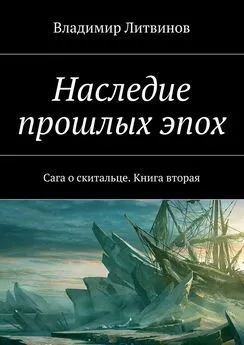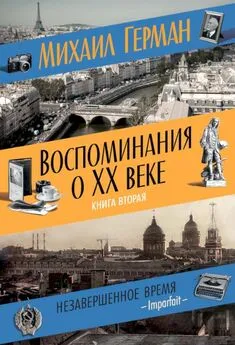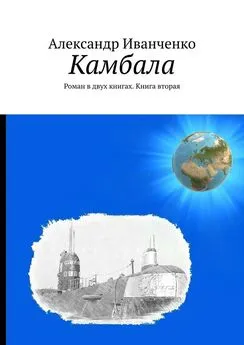Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0656-3, 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Точнее всех чувства многих выразил Игорь Кобзев. Он сказал (я уже приводил эти его слова, когда рассказывал о нем):
— Чем же теперь жить?
Это были не слова, а стон. Все, на чем строился внутренний мир многих людей, их примирения с совестью, оказалось, по меньшей мере, несостоятельным. Надежда на то, что великий Сталин о многих преступлениях своих подчиненных не знал, чем тешили себя многие, лопнула — стало ясно, что все они от него и исходили. Даже те, кто, не задумываясь и не мучаясь совестью, просто принимал происходящее как данность и надеялся на ее прочность, на то, что так оно и есть, и это навсегда (и соответственно себя вел), тоже оказались обманутыми, даже опрокинутыми. Еще бы! Первыми «предали» Сталина и его порядки именно те, на которых все держалось, на кого они больше всего имели право надеяться. Так что подавлены были все. Одних поразила страшная правда, других — что в ней признались.
Конечно, люди, заинтересованные в патологии, как я уже говорил, скоро опомнились и стали ее защитниками, но от удара, нанесенного им Двадцатым съездом, сталинщина уже не оправилась никогда — фикция потеряла цельность. Сегодняшние разочарования приводят к началу сталинской легенды, как бы аналогу наполеоновской XIX века… Прежде всего это глупо. Как вообще глупо сравнивать Наполеона со Сталиным. Наполеона я тоже не люблю, но в его характере не было ни мелкой мстительности, ни подозрительности, ни зависти, ни потребности присваивать себе чужие деяния. Он не объявлял себя устами своих клевретов корифеем всех наук, но работу по баллистике, за которую его приняли в престижное научное сообщество, он написал сам, и она действительно представляла ценность. Утверждение же сталинской легенды не только глупо, но и очень опасно. Наполеон оставил после себя свой знаменитый кодекс («Кодекс Наполеона»), который не был отменен и способствовал организации общества и после его удаления и смерти; от Сталина только гибельная традиция решать любые, в том числе и локальные, проблемы «любой ценой» (правда, и эта традиция тоже им не создана, а унаследована от энтузиастов большевистской революции, им она «только» была превращена в повседневную бюрократическую рутину). Созданная им система стала разваливаться сразу после его смерти — несмотря на большое количество заинтересованных в ней или просто бескорыстно тоскующих о временах, когда от передового советского танка до Парижа было гораздо ближе, чем до Москвы (и так и не понявших, что в жертву этой амбиции была принесена вся жизнь страны, а может быть, и ее будущее). Я надеюсь, что эти гибельные «традиции» невосстановимы, что они, во всяком случае, не станут доминирующими, и Россия выживет. Но в любом случае, даже если они станут доминировать и Россия вновь вступит на дорогу гибели, им не удастся восстановить то, что было и чему был нанесен непоправимый удар в 1956 году…
Но я рассказываю о себе, о своем восприятии атмосферы вокруг Двадцатого съезда, а не о его роли в истории, хотя и ее не смог обойти… Я не только был доволен, что такое произошло, я был счастлив. И все же я не был удовлетворен. Нет, совсем не потому, что съезд в своем осмыслении событий ограничивался (в лучшем случае) идеалами «подлинного ленинизма», — мои ожидания и желания не шли дальше этого. Конечно, я еще не представлял, каковы были на самом деле эти «ленинские нормы», но просто дальше, по моим представлениям, была духовная пустота. Настораживала меня, наоборот, некоторая недосказанность и неполнота, а следовательно, неискренность в этом возвращении, в котором, как я полагал, я вместе со всем человечеством крайне нуждался. Смущала меня некая наглая, «совковая», как бы теперь сказали, инфантильность как в объяснениях, так и в обобщениях, прозвучавших на съезде. Я и теперь считаю, что личная патология Сталина — на ней в значительной степени и базировались официальные объяснения случившегося — имела место, но возникал вопрос: как такая хорошая партия могла позволить ему безнаказанно ее проявить, наложить отпечаток на созданный ею строй, а в конце концов и просто дать себя уничтожить? Я не имел ничего против идеологии, но ведь ее каждый раз приспосабливали к любым текущим потребностям власти или капризам вождя. Об этом не говорилось. И, наконец, меня не устраивало само понятие «культ личности» в применении к патологической тирании. Получается, что все дело в теоретической ошибке, между тем теория тут вообще была ни при чем. Марксистское отрицание культа личности сводится к тому, что никакая личность не может самовольно изменить ход истории. Не на каком-нибудь (пусть даже длительном) локальном отрезке времени, а в плане общего развития человечества. Все, что проделывал Сталин, не имело отношения ни к учету, ни к забвению этого положения. Применение этого термина означало, что мы остаемся в мире, где названия предметов заменены служебными псевдонимами. Не то чтобы я ясно тогда это сознавал, — вероятно, для этого надо было внутренне разделаться с коммунизмом, а этого тогда еще не произошло, — но ощущение такое было, и была неуверенность в неотвратимости изменений, вытекающих из решений съезда.
И я решил внести свою лепту в этот необходимый процесс… В эти недели готовились к сдаче апрельские, сиречь ленинские, номера журналов, и я решил написать и напечатать стихотворение, в котором Ленин противопоставлялся бы Сталину. И я написал его. Полностью я его не помню — только восемь строк:
О Ленине память не бронза,
Не камень, что встал тяжело,
Не пламень сияющий солнца,
А просто людское тепло.
…И Ленин в истории мира
Живет, не меняясь никак.
На нем не сиянье мундира,
А будничный скромный пиджак.
В человеческом плане эти строки были вполне честными, ибо соответствовали тогдашнему моему отношению к проблеме, но насчет их «высоких поэтических» качеств я никогда не питал иллюзий. Творчески это стихотворение было поделкой, ибо родилось не от внутренней потребности (о Сталине у меня к тому времени уже не такое было написано), было лишним… Но задача у меня была не творческая — я хотел легализовать тему, раздвинуть границы печатности, создать прецедент. И действительно, это было первое стихотворение в советской печати, которое противопоставляло Ленину его «верного ученика и соратника» и вообще замахивалось на «великого вождя». В либеральной «Юности» его «зарубил» Андроников. Почему? За качество? Какое? Эстетическое? Но с каких это пор к «юбилейным» стихам (а именно под этот жанр мой опус и был закамуфлирован) стали предъявлять слишком высокие эстетические критерии? Это бы значило ликвидировать этот необходимый партии жанр. Эстетически это стихотворение вообще не существовало, но профессионально оно вполне отвечало «кондиции». «Некондиционным» могло показаться только его содержание, его убогая «смелость». Я отнюдь не осуждаю Андроникова — рисковать, если он считал это риском, существованием едва ли не самого интересного в стране журнала ради такого опуса явно не стоило (как и поделки в «Соц. Караганде», этот опус и в моих глазах никогда не был ни достижением, ни неудачей — просто был фактом моей человеческой, а не творческой биографии), но делать что-то надо было. И я отнес свою поделку в отнюдь не передовой, но расположенный по соседству журнал «Дружба народов». Там она и была напечатана. Ее редактор Г.Корабельников принял ее без звука — понял, вероятно, что она соответствует конъюнктуре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: