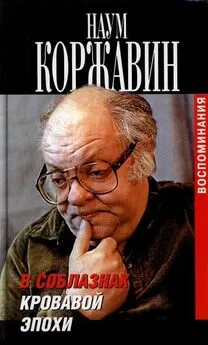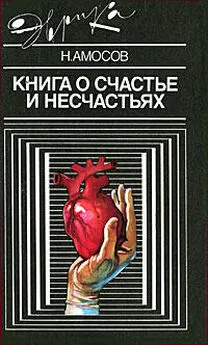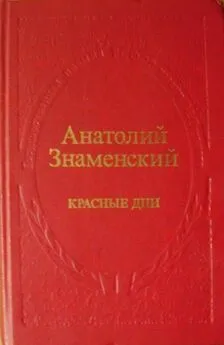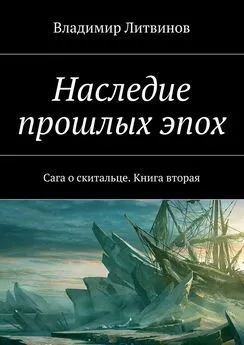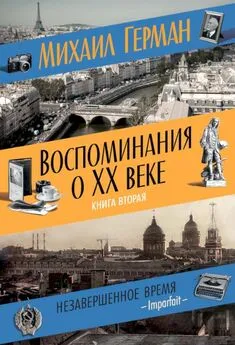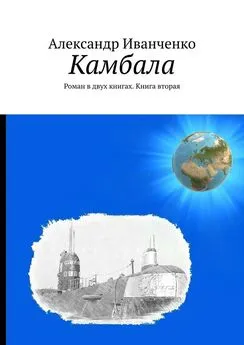Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0656-3, 978-5-8159-0655-6 (кн. 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в двух книгах. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мой уже покойный друг Владлен Бахнов, который был объектом такой же травли, но в Литинституте, вспоминал году в 1995-м, как при личных встречах вели себя тогда его знакомые, в том числе и часть активных «антикосмополитов», как большинство из них были довольны, когда дела у их затравленных товарищей начали налаживаться. Заключил, правда, он свой рассказ так:
— Тогда все испытывали некоторую неловкость от этого, теперь — нет.
О том, что и почему «теперь», разговор будет в своем месте, но «тогда» было действительно так. Уж слишком это противоречило всему, в чем люди были воспитаны, и уж слишком наглядно проявлялась тут несправедливость и обстановка травли. Сказывалась и естественная порядочность. Думаю, что если такая обстановка создастся опять, то возмущения и смущения будет меньше. Не из-за усиления антисемитизма, а из-за ослабления нравственной ориентации. Слишком часто в последние годы хорошие слова оказывались камуфляжем, слишком часто обманывалось доверие. Слова мои эти для объяснения, а не оправдания будущих свинств. Человек простой и непростой все равно Homo sapiens. И он не имеет права говорить: «Меня до этого свинства довели». (Позволил себя довести — значит, стал свиньей.) Но тут есть одна тонкость — он о себе так говорить не может, но другие о нем — могут и даже должны. Ибо они обязаны думать не о его грехах, а о своих. Иногда — и перед ним. Но это другая тема и опять мысли другого времени.
А о чем и что мы говорили тогда? Конкретно это вспомнить трудно, ибо все это были разговоры того времени. И даже не важно, какие у кого были взгляды. Я ведь тоже придерживался «подлинного коммунизма». Разве что Сталина я теперь отрицал более решительно и абсолютно, чем пока они и почти все мои московские друзья. Но и это определялось не тем, что мне больше «показали» — мне ведь «показывали» долго, а я упирался, — просто я был человеком другого субпоколения и меньше был вовлечен в Сталина.
Начало моей сознательной жизни совпало не с завлекательным для молодой интеллигенции, обманным (только ложь еще удавалось скрывать) энтузиазмом первой пятилетки, а с неправдоподобной и массированной ложью тридцать седьмого года. И отвращения к ней не могла во мне выжечь никакая Победа и никакая диалектика. Космополитская кампания только освободила меня от насилия над собой. В людях первой пятилетки тоже все это было, но пристрастие к Сталину сидело в них глубже. Раньше стали вкладывать и больше вложили. Потом всякая разница исчезла. Но все равно — у меня, как и у них — все это было блужданием в потемках, подспудным и перманентным сопротивлением разума, духа, здравого смысла и порядочности тому, что теперь называется сталинщиной.
Разговоры и споры у Тамарченок касались не только «материй», но и людей, прежде всего друзей. Тамарченки оказались для меня в тот момент вершиной айсберга. Встреча с ними показала мне, что все мои друзья, о которых, конечно, тоже шла речь, так и остались друзьями. Последующий мой наезд на Москву подтвердил это. И даже больше: во всем моем окружении не было предателей. Собственно, в этом не было ничего удивительного.
Но мир и тогда, и теперь состоял не только из моих друзей, реальных и потенциальных. Приходилось соприкасаться и с другими. Б о льшая часть этих «других» состояла, как в Чумакове, из нормальных людей, которые никому по доброй воле зла бы делать не стали. Но им и не надо было уж слишком идеологически самоопределяться и проявляться. Конечно, в какой-то мере в грех втягивали и их — тоталитаризм никого не оставлял чистым, — но мера тоже имеет значение. Например, мера активности.
Но те два студента, о которых я, собственно, и хочу рассказать, явно были людьми активными. Хотя рассказывать особенно нечего. Ничего ведь не произошло. Просто два студента по какому-то учебному делу в назначенное время пришли к своим преподавателям и не застали их дома — те где-то задержались (за что потом были принесены соответствующие извинения). А не застав, стали их дожидаться… Все это естественно. И то, что, дожидаясь, они обнаружили меня и занялись мной, тоже естественно — во-первых, я был для них новый человек, во-вторых, явно был гостем их преподавателей, следовательно, человеком, как-то связанным с ними и, весьма вероятно, с их профессией. То есть с будущей профессией самих этих студентов, с ее тайной. И при всем при том почти ровесник — с которым разговориться по-свойски было нетрудно. Все это было естественно, и никаких задних мыслей у них при этом не было. И кто я и откуда, они сразу стали допытываться, отнюдь не из бдительности, а из интереса — раз встречен в этом доме, то, наверное и сам литератор или преподаватель, интересно познакомиться. Все это было естественно, но что-то в них было такое, что не располагало меня к откровенности. Много позже я узнал от тех же Тамарченок, что оба эти парня сделали блестящую партийно-идеологическую карьеру — занимались надзором над литературой и мыслью вообще. Но тогда я этого о них знать не мог, тогда еще и сами эти парни о себе этого не знали. Но доверия они у меня не вызывали.
На те простые вопросы, которые они задавали (вроде «кто ты?» и «откуда?»), я не стал бы отвечать любым малознакомым людям — даже намного более мне симпатичным, чем они. Обстоятельства и прежде всего долг перед моими друзьями исключали такие откровенности. Но здесь я и сверх того чувствовал, что с этими бойкими ребятами лучше держать ухо востро. Тамарченки после их ухода подтвердили это.
Нет, дело было не в их излишнем любопытстве — оно вовсе не было ни излишним, ни бестактным. Представить, что отвечать на простые вопросы человеку может быть затруднительно, нормальному человеку почти невозможно. Кстати, мое положение было бы не менее затруднительным, если бы эти вопросы задавали не они, а другие малознакомые люди — даже гораздо более мне приятные. Но кто бы ни задал мне эти вопросы, они были заданы, и нужно было на них незамедлительно отвечать. А как?
Выдать себя за слесаря или фрезеровщика значило вызвать подозрение. Я, конечно, мог бы им некоторое время вешать лапшу на уши (все-таки кое-что об этих профессиях я знал), но уж слишком это было недостоверно. Непохож я был на рабочего. Да и должен был возникнуть вопрос: где я работаю? И тут я мог завраться. Выдать себя за химика или биолога было еще опасней.
Не проще было ответить и на вопрос, откуда я. Хорошо я знал два места — Москву и Чумаково. Чумаково отпадало. Там я мог быть только агрономом или учителем. Но в агрономии я понимал еще меньше, чем в химии. Да и на агронома я был похож еще меньше, чем на химика. А на сельского учителя? Тоже весьма отдаленно. К тому же в специфике учительского дела эти парни могли оказаться более сведущи, чем я — вероятно, проходили педпрактику. Да и мог встать вопрос, где я учился. Все не получалось. И в конце концов пришлось мне выдать себя за… студента Литинститута. Тут все-таки было только извращение правды, а не чистая ложь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: