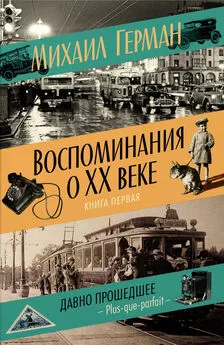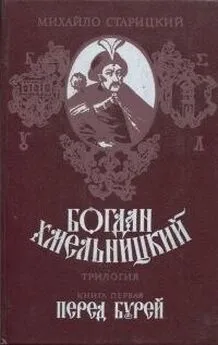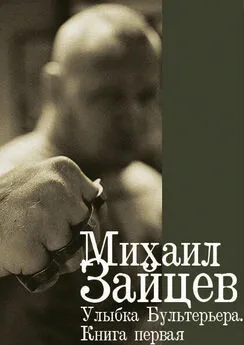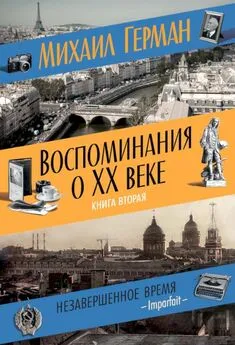Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14212-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание
Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.
Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ему не было и сорока, но вид у него был очень взрослый. В ту пору он уже располнел, стал даже грузным. А те, кто знал его сразу после войны, рассказывали о едва ли не бабелевском, гибком, «как лоза», удальце в орденах, с черным чубом и синими очами, в длинной кавалерийской шинели. Глаза были еще хороши, но все же чуть поблекли, насторожились. Говорил так уверенно, интеллигентно и обстоятельно (у него был изысканнейший, чуть архаичный, богато интонированный русский язык), настолько густым, глубоким и основательным баритоном, что даже развязный и светский Марк Эткинд терял рядом с ним обычную самоуверенность.
Трудно сложилась судьба Бориса Давыдовича. Бесстрашный военный, он был в мирное время навсегда травмирован режимом, в который продолжал верить или убеждал себя, что верит. Сомнительные поступки, к которым вынуждала многих из нас советская власть, он старался оправдать и обосновать. Не хотел прямо признавать неизбежность компромисса, не принимал и веселого цинизма того же Марка (оба они были членами партии, с той разницей, что Борис Давыдович вступил в нее на фронте), который, выходя с партсобрания, прямо в коридоре рассказывал фривольные антисоветские анекдоты. Уже в институте, опять-таки по обязанностям коммуниста, Борис Давыдович был вынужден играть по правилам партийной дисциплины, и это пусть не слишком, но все же точило его изнутри. Ему, книжному петербургскому человеку, великому любителю и страстному собирателю графики, всю жизнь надо было служить в официозных конторах. Человек он был талантливый, но великий, как говорили древние, cunctator (медлитель). Уже тогда, когда я впервые с ним познакомился, я видел у него на столе толстую, написанную незабываемым, словно нарисованным почерком рукопись о Николае Лапшине. Прошло тридцать лет, а книгу он так и не издал, она была опубликована через много лет, после его смерти.

Борис Давыдович Сурис. 1940-е
Мне он очень понравился, к тому же я от него целиком зависел: ему предстояло решать судьбу моей книги. Я же его раздражал настолько, что он и не старался это скрыть. И было за что. Борис Давыдович умел держаться просто, всякое манерничанье и франтовство не переносил. Кроме того, он писал очень медленно и трудно, а двадцатипятилетний томный юнец, готовый за несколько месяцев настрочить маленькую, но все же монографию, ему был неприятен. Он оставался, как всегда и со всеми, корректен, но прохладен. Тем не менее согласился редактировать мою книжку — может быть, и потому, что об этом попросил мой герой — Юрий Станиславович Подляский.
Мне повезло. Редакционные заключения Суриса и его карандашные маргиналии в рукописях остались образцом высококлассной редакторской работы. Его замечания были убийственно точны и остроумны, часто обидны, но всегда справедливы. Он не ленился исписывать мелким и разборчивым текстом поля рукописи сверху донизу, и читать эти мини-этюды было всегда слегка унизительно, очень полезно и очень смешно.
Каждая его небрежная и тем более неодобрительная интонация ранила меня ужасно. Редкие похвалы заставляли в себя верить. К сожалению, я производил впечатление благополучного и самоуверенного господинчика; возможно, если бы тот же Борис Давыдович знал, как страшно мне жить и как я в себе сомневаюсь, представлял себе нашу с мамой тщательно скрываемую нищету, он был бы ко мне снисходительнее. Со временем, когда я уже много печатался и приобрел некоторое реноме, Борис Давыдович стал куда мягче, мы почти подружились. Но это случилось нескоро.
Он умер осенью 1991 года, перед нежеланным, убийственным и ненужным для него отъездом, на котором настояла его семья.
Настала осень памятного 1958-го, и в жизни моей произошли обычные для молодого человека перемены. Обычные для всех, но не для меня, поскольку в моей жизни обычные события всегда случались в каком-то вывернутом, истерическом варианте.
Тем летом в массовом отделе Павловского дворца появилась красивая молодая дама, студентка режиссерского факультета, похожая на героиню итальянских фильмов. Та самая, которая эффектно острила и курила и с которой несколько месяцев назад я познакомился у своего сослуживца Ильи Михайловича Гуревича. Уж конечно, я решил: судьба! При более близком знакомстве дама показалась, быть может, не столь уж молодой, но столь же обворожительной. На фоне моего дотлевавшего придуманного печального романа роман намечающийся был полон веселья, пылкости, остроумия и тепла. Мы с мамой очень соскучились по блеску и светскости, а тут всего этого было сверх меры.
Что тут рассказать. Роман протекал по одним вечным законам, матримониальные планы — по столь же вечным, но иным. В конце осени выяснилось, что робкий разговор моей подруги с московскими ее родителями о «новом знакомом» вызвал решительный демарш. Родители прямо и настойчиво спросили, когда мы идем в загс, и сообщили, что приедут к бракосочетанию. Потом, когда мы уже были женаты, она признавалась, что вскоре после нашего знакомства решительно захотела за меня выйти замуж и стала вести себя вполне целеустремленно.
Так что чего там было больше — расчета, игры, «судьбы» или живых чувств, сейчас сказать не решусь. И хотя моя невеста, собираясь замуж отнюдь не в первый раз, вовсе не претендовала на фату, я полагал, что должен жениться «как честный человек», и оказался отчасти в положении Подколесина. Из окна, однако, не выпрыгнул, возможно, и зря. Нет, ни агнцев, ни козлищ не случилось в этом браке, слишком банальном, чтобы подробно говорить о нем. Беда была, смешно сказать, чисто социального свойства. Я собирался жениться на нищей романтической студентке Театрального института, порвавшей со своими буржуазными родителями-ретроградами. А уже на пороге свадьбы выяснилось, что семейные традиции не нарушены и привычки к устроенной советской жизни куда сильнее романтических порывов.
Родители (те самые «буржуазные ретрограды») были добрые и милые. Но будущий мой тесть (замначглавка республиканского министерства), номенклатурный человек в ратиновом пальто и пыжиковой шапке, впервые войдя с сумкой, полной номенклатурных же пайков, в нашу нищую комнату, спросил: «Где у вас холодильник?»
Мама, у которой на лице появилось выражение императрицы перед строем революционных матросов, сказала, что холодильника вовсе нет.
Будущий тесть растерялся: «Как можно жить без холодильника!» Он искренне не понимал этого.
Потом и мама, и я не раз пытались полюбить новых родственников, но так и не получилось. Классовая ненависть к советским буржуинам, к пайкам и распределительному достатку оказалась неуправляемой, бешеной, возможно, отчасти и несправедливой. Но она спасла меня от многого и много мне дала. Спасла от стремления к богатству, от советского карьеризма, еще больше утвердила в нежелании сделаться «партийным». Дала способность всегда помнить о том, что есть люди беднее тебя, что нельзя пользоваться пайками-подачками. Нет, это еще не стало моей позицией, но кое о чем я начинал догадываться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: