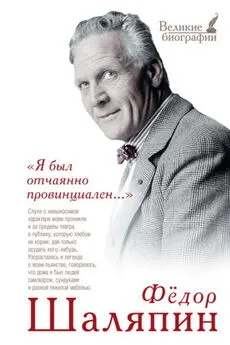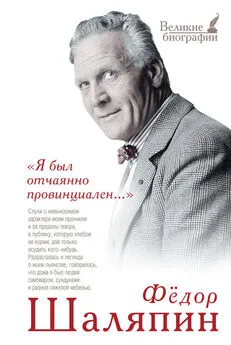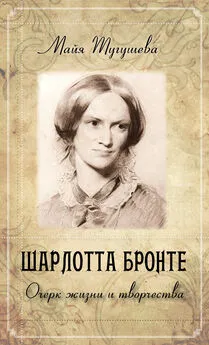Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]
- Название:Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества] краткое содержание
Максим Горький говорил о Шаляпине: «Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек своими силами прошедший сквозь терния и теснины жизни… чтобы петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятельна…»
Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Римский-Корсаков говорил о Шаляпине, что его надо не просто слушать, но «звукосозерцать». Это слово «звукосозерцать» надо понимать так, что Шаляпин ни одним жестом, движением, а тем более мимической игрой не нарушал жизненной правды и убедительности образа, который создавал на сцене. Каждый образ он постепенно доводил до большего и большего совершенства, он думал о всех элементах, составляющих образ, о том, как звучит фраза, о том, как облегает его мощную фигуру кольчуга, о том, как ложатся складки плаща.
Перед выходом на сцену он осматривал, как поставлен трон царя Бориса, он думал о том, как будет лежать его рука, как поставить ногу, и вот почему Стасов писал о том, что каждый его жест, каждая поза просится в картину художника.
Нечего говорить о том, как он заботился о слове, о тексте оперы, в особенности иностранного композитора. Он пел в «Дон Карлосе» партию короля Филиппа в собственном переводе и сам перевел на итальянский язык партию Ивана Грозного в «Псковитянке».
Разумеется, подражать Шаляпину — значит быть только бледной копией в ролях, созданных гениальным артистом, но подражать ему в сверхдобросовестном, сверхлюбовном отношении к творческой работе должно, в этом заключается одна из неоценимых заслуг Шаляпина перед всемирным оперным искусством.
Все, кому доводилось работать с Шаляпиным, пишут о его строгом, взыскательном отношении к искусству. Он мог бражничать, мог отменить спектакль, но на сцене был строг и взыскателен к себе, как и к другим. Были у него иногда какие-то провалы в отдельных сценах, пустые места, бывал на сцене временами какой-то отсутствующий Шаляпин, но вдруг, в одно мгновение происходило что-то непостижимое — артист воодушевлялся, загорался, и перед зрителями во весь рост вставал вдохновенный художник, артист. И холод вдруг пробегал по жилам, когда Шаляпин пел: «Тяжка десница грозного судьи» или в «Демоне» обольстительно, проникновенно и страстно звучало: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно…» и дальше: «Он слышит райские напевы…» Только сущий демон мог так пропеть, произнести, чуть иронизируя и вместе с тем обольщая, очаровывая Тамару, эти лермонтовские стихи.
Да, великий, великий был артист!
16
На пятом десятке лет своей жизни Шаляпин сохранил необыкновенную легкость, подвижность, пластичность своего большого и стройного тела, непостижимое умение владеть этим телом, сохранил и весь блеск своего артистического дарования. В интимном кругу, в благодушном настроении он по-прежнему был великолепным рассказчиком, в особенности если тут же находился драматический артист, соперничающий с ним в искусстве рассказа.
Он был редким импровизатором. О даре Шаляпина-импровизатора с восхищением вспоминают ныне здравствующие его сверстники. Однажды он встретился за обеденным столом у Стасова со знаменитой артисткой Марией Гавриловной Савиной, одной из умнейших, острых и наблюдательных женщин своего времени. Они — сначала только для себя — разыгрывали забавную сцену ухаживания провинциала-купчика за столичной знаменитостью: пять минут спустя все сидевшие вокруг буквально помирали от хохота, слушая великолепное состязание в остроумии, выразительности мимики, остроте диалога Шаляпина и Савиной.
В другой раз в студии известного художника зашел вечный спор о том, что такое искусство. Шаляпин не принимал участия в этом споре, только мимоходом сказал: «Я вам покажу, что такое искусство» и незаметно ушел. Спор продолжался, ухода Шаляпина не заметили. Внезапно открылась дверь — на пороге появился со спутанными волосами, смертельно бледный Шаляпин и дрожащими губами произнес только одно слово:
— Пожар…
Началась паника, крики ужаса — все, что бывает в таких случаях. И вдруг маска страха, отчаянья слетела с лица Шаляпина, он рассмеялся и сказал:
— Вот что такое искусство.
Разумеется, никакого пожара не было, но люди, бывшие в тот вечер в студии, уверяли, что когда они увидели лицо Шаляпина, им почудилось даже пламя, выбивающееся из-под двери.
Шаляпин рассказывал о своей первой поездке в Англию. Он ехал всю ночь в поезде с незнакомым англичанином. По-английски Шаляпин не понимал, знал только одно слово «иес», то есть «да». И с помощью одного этого слова, произносимого очень убедительно, с разными интонациями, он поддерживал длиннейший разговор со своим попутчиком-англичанином, который рассказывал какую-то абсолютно непонятную Шаляпину длинную историю. Когда им пришла пора прощаться, англичанин долго жал руку Шаляпину, очевидно, выражая особую благодарность своему общительному спутнику-собеседнику.
Особенно любил Шаляпин разыгрывать, импровизировать характерные бытовые сценки, толковать с подыгрывающим ему приятелем-артистом на характерном языке купцов, волжских рыбников, изображая торговую сделку. Он сыпал специфическими словечками купцов-рыбников и мог часами продолжать эту игру.
Он импровизировал целые сцены, комические истории, в которых являлся то в образе подгулявшего купчика, то губернатора, даже в образе купчихи-вдовушки. Это было чудесное перевоплощение, на глазах у всех, в застольной беседе. Здесь Шаляпин вступал в соперничество даже с Иваном Михайловичем Москвиным — даровитейшим рассказчиком. Шаляпин любил читать на память Пушкина, в студии его имени он однажды читал «Моцарта и Сальери», одинаково хорошо читая и за Моцарта и за Сальери. Он подумывал о том, чтобы выступить в роли Макбета.
Годы гражданской войны, голода, блокады были суровым испытанием для молодой Советской республики. Но даже в эти грозные годы, в 1919–1921, не угасала творческая, новая жизнь, пробудившаяся в Октябре 1917 года; люди забывали о голоде, лишениях, создавали новое, близкое народу революционное искусство. В Доме искусств на Мойке, в Доме литераторов, в театральном отделе Петроградского совета спорили о революционном репертуаре, о реалистическом искусстве. Театры и концертные залы были переполнены новыми зрителями, которым раньше были заказаны пути в театр, — поистине искусство принадлежало народу.
Лучшие из лучших представителей старой художественной интеллигенции с воодушевлением работали для народа, их не смущал и скудный паек — осьмушка черствого хлеба — и холодные, нетопленные квартиры. Но в обстановке классовой борьбы явно и тайно действовали «внутренние эмигранты», контрреволюционеры, ожидающие прихода белогвардейцев и интервентов. Эти люди не могли оставить в покое такую заметную фигуру, как Шаляпин, — всемирно известный русский артист. Если раньше Шаляпин был не разборчив в людях, окружавших его, то в те трудные годы он терпел вблизи себя злопыхателей и клеветников, уверявших его в том, что «искусство гибнет» и спасение для него только за границей, где еще умеют ценить талант.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]](/books/1095972/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv.webp)

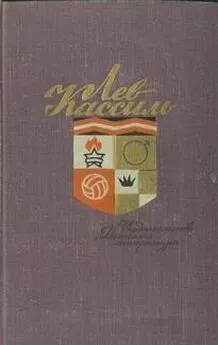
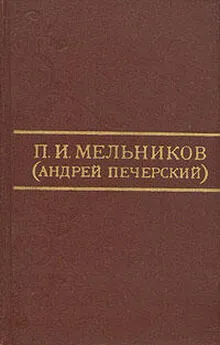
![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/391421/igor-beleckij-anton-brukner-1824.webp)