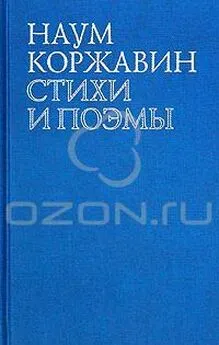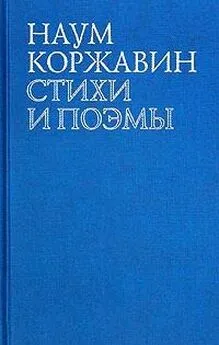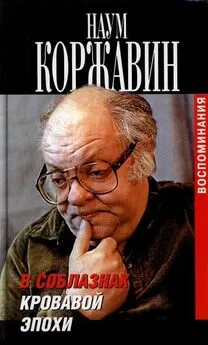Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0654-9, 978-5-8159-0656-33
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1 краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
[Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 1.
Полный текст в авторской редакции.
Издание второе, исправленное.]
В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Во имя отца и сына!» —
Глухо сказал командир.
И был непохож на рясу
Блестящий его мундир.
Религиозной пропагандой, зароненной несмотря на то, что церковь тогда уже была разрешена, здесь и не пахло. Ни автор, ни его герои (кроме погибшего) в Бога не верили — отдавалась только дань воинскому подвигу. Тем не менее поэма вызвала жаркие споры, ибо оскорбляла атеизм неверующих. Воспитанная в богоборчестве молодежь почувствовала себя задетой за живое. Может, и потому, что допущение религии понималось этой молодежью как вынужденная военными обстоятельствами уступка косности, а подсознательно — как отступление от идейности, без которой было пусто. И то, что тут кто-то это еще вроде как воспевает, они уже вынести не могли.
Интересно, что мои стихи, содержащие настоящую крамолу (большей крамолы, чем сомнение в революционной легитимности происходящего, тогда не было), таких нападок не вызывали. Фактически это была реакция не на религию, о которой никто из нас не имел никакого представления, а на «сталинщину», хоть они об этом не знали, ибо Сталина они чтили. Все смешалось в доме Облонских.
Я тоже был атеистом и даже крайним романтиком революции, но поэму все же защищал. И даже обвинил нападавших на нее в антирелигиозном ханжестве. Ведь в нашей стране есть верующие и есть среди них герои — почему же нельзя об этом писать. Убеждение, что при любых взглядах, при любом отношении к описываемому следует писать правду, было мне присуще уже тогда. Кстати, думаю, что выражение «антирелигиозное ханжество» вообще точное, больше относится к нынешним западным интеллектуалам, чем к тогдашним спорщикам из «Молодой гвардии». Но это — другая тема.
Я должен еще раз опровергнуть распространенное представление, что все тогда боялись друг друга. Из-за моих стихов, а также общительности у меня было много знакомых, и разговоры со всеми бывали весьма откровенные. Это не значит, что все со мной обязательно соглашались, многие защищали Сталина, но обсуждали мы это — конечно, не в общественных местах — совершенно свободно. И никто из тех, с кем я разговаривал, на меня не донес. Доносили стукачи, они, конечно, посещали эти собрания — не могла же Лубянка оставить такое шумящее скопище без своего попечения. Но доносили в общих чертах (большего не знали), и только о том, что происходило на собраниях. То же, как выяснилось после ареста, было потом и в Литинституте. На меня стучали, но не те, с кем я общался, а посторонние люди, и тоже в общих чертах — не очень соображаясь с правдой. Почему я не откровенничал со стукачами — не знаю. Вряд ли из осторожности. Вероятно, такая избирательность получалась стихийно — просто я общался, в основном, с теми, с кем хотелось, кто вызывал у меня интерес и симпатию, а стукачи, видимо, ни того, ни другого не вызывали.
Руководители объединения сменялись. О Сергее Васильеве и Илье Сельвинском я уже говорил. Одно время руководил объединением монументальный Владимир Александрович Луговской. Потом он руководил одним из поэтических семинаров Литинститута. О нем подробней говорить я буду в связи с Литинститутом.
У нас в подвале выступали с чтением стихов Вера Инбер, Михаил Светлов, Леонид Мартынов. Первые два виделись мне в ореоле невероятных для моего воображения 20-х годов. О Леониде Мартынове я услышал, только приехав в Москву. Кто-то подарил мне его вышедший в Омске сборник «Лукоморье», и я узнал, что в России есть такой крупный и удивительный поэт. Я и теперь так думаю, хотя в его творчестве нравится мне не все. Но ненравящееся (на мой взгляд, слишком нарочито проявляющее его эстетическую позицию) отбрасывается, а Леонид Мартынов остается большим поэтом. У нас тогда он читал поэму, представлявшую собой исповедь дочери служащего какого-то сибирского магистрата в XVII или XVIII веке. Поэма, кажется, была очень хорошей, но мало приспособленной для публичного чтения. Не говоря уже о том, что читал он ее очень скучно. К сожалению, я никогда этой поэмы больше не слыхал и не видел — ни в одном его сборнике или собрании. Поэтому проверить это свое ощущение, доказать, что она хороша — до сих пор не могу. Но отдельные куски, которые до меня доходили, как я помню, были очень хороши.
Очень понравился Михаил Светлов, особенно его «Итальянец», — он был вполне человечен, патриотичен и интернационалистичен. Понравился он не только мне, а, как минимум, абсолютному большинству. Для большинства это тогда было глотком свежего воздуха, возвращением к истокам. Впрочем, в этом стихотворении вообще нет ничего дурного. А для меня… Кто-кто, а Светлов был для меня живой легендой, а вот теперь я сидел в зале и слушал. И пусть я не имел ничего за душой: ни одной напечатанной строчки, никаких источников существования, ни кола ни двора, только койку в общежитии чужого по профилю института — это было уже некоторое исполнение желаний, дорогой к нему. Впрочем, со Светловым я более тесно общался потом, и о нем тоже буду говорить в связи с Литинститутом — я там состоял в его семинаре.
В «Молодой гвардии» я перезнакомился с большим количеством молодых людей. Там я впервые услышал и первый раз подружился с Валентином Берестовым, ныне уже, к сожалению, покойным. Первый — потому что он вскоре вдруг исчез с горизонта, попытался уйти из литературы. Он был еще очень молод, выглядел почти мальчиком, серьезным мальчиком в очках (он был моложе меня на три года — что это теперь значит!), был тогда даже ниже меня ростом, чуть ли не по грудь мне (это потом он вымахал в «дяденьку-достань-воробушка»), и, кажется, тогда еще учился в школе. К этому времени он уже был замечен и обласкан Ахматовой, Пастернаком, Алексеем Толстым и другими легендарными для меня тогда корифеями (это произошло в Ташкенте, где и он, и они жили во время эвакуации). И действительно — стихи его были законченными, взрослыми. От этой законченности, от вундеркиндизма он тогда и сбежал. Правда, на вундеркинда он не походил нисколько.
Его суждения о поэзии были серьезными и точными, ориентированными на понимание живого организма стихотворения, а не на манипуляцию терминами. Это нас и сблизило, хотя никакой общественной тематикой он не то что не интересовался — не выделял ее. Судил о стихах как о стихах, независимо от степени крамольности — она не была для него ни плюсом, ни минусом. Мне это было очень дорого и близко в нем. Я не хотел «аплодисментов за смелость», не хотел и хулы за нее и не терпел сублимаций страха и равнодушия, высокомерно выдаваемых за эстетическую посвященность. У Берестова ничего этого не было. Он как был, так и остался для меня человеком тонкого, точного и строгого вкуса. Он был культурен.
На одно из занятий он привел своего товарища Кому Иванова, сына писателя Всеволода Иванова. Ныне он известный лингвист, литературовед и мемуарист. Его имя я здесь уже упоминал. Правда, подружился я с ним только в конце пятидесятых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: